– Рассказывай ещё, Люс, рассказывай… Ты проливаешь мне на душу бальзам.
– Честное слово, я больше ничего не знаю. Лилин в прошлом месяце разродилась двумя близнецами. А ещё устроили большой приём с выпивкой в честь сына Эмье, вернувшегося из Тонкина, где он теперь занимает высокий пост. Адель Трикото в четвёртый раз вышла замуж. Габриэль Сандре, которая вечно изображала из себя маленькую девочку с молочными зубками, вышла замуж за парижанина. Леони Меркан теперь классная надзирательница в парижской школе – ты её прекрасно знаешь, такая робкая дылда, нам доставляло удовольствие вгонять её в краску, ведь кожа у неё очень тонкая. Ну все, говорю тебе, все едут в Париж; просто мания, безумие какое-то.
– Ну, я этим безумием вовсе не одержима, – говорю я со вздохом, – я тоскую по нашим краям… Конечно, сейчас уже меньше, чем в первые дни, потому что начинаю понемногу привязываться…
Я поспешно закусываю губу, опасаясь, что слишком много сказала. Но Люс не больно-то проницательна и несётся дальше во весь опор:
– Ты, верно, и в самом деле тоскуешь, но уж никак не я. Порой, лёжа на этой огромной кровати, я вижу во сне, что я всё ещё в Монтиньи и сестрица изводит меня десятичными дробями, и горным рельефом Испании, и всякими плодоножками и цветоножками; я просыпаюсь в холодном поту и каждый раз испытываю огромную радость от того, что я здесь…
– Рядом с добрым дядюшкой, который храпит.
– Да, он храпит. Откуда ты знаешь?
– О Люс, ты умеешь обезоружить! Но расскажи лучше про Школу, про нашу Школу. Помнишь, как мы разыгрывали бедняжку Мари Белом, а нашу злючку Анаис помнишь?
– Анаис учится в педагогическом училище, я тебе уже об этом говорила. Но это всё равно что пустить дьявола в кропильницу. Она со своей «старшеклассницей» по имени Шаретье – точь-в-точь как моя сестричка с Мадемуазель. Ты знаешь, в педучилище в дортуаре – два ряда открытых клетушек, а между ними – проход, чтобы следить за воспитанницами. Ночью эти кельи задёргивают кумачовой занавеской. Ну так вот, Анаис находит способ почти каждую ночь пробираться к Шаретье, и её ни разу не поймали. Но это плохо кончится. Я, во всяком случае, надеюсь.
– Откуда ты всё это знаешь?
– От одной из наших пансионерок. Семантран, она поступила в училище одновременно с Анаис. А уж видик у этой Анаис, чистый скелет! Даже не может подобрать воротничок к форме, чтобы он не болтался на шее. Подумай, Клодиночка, они там встают в пять утра! А я дрыхну в своё удовольствие до десяти-одиннадцати часов, выпиваю прямо в постели чашечку шоколада. Понимаешь, – добавляет она с рассудительным видом, как здравомыслящая мещаночка, – это помогает забывать о многом.
В мыслях своих я уношусь в Монтиньи. Люс присела на корточки у моих ног, ну точь-в-точь курица.
– Люс, что нам задали по стилистике к следующему занятию?
– Задание к следующему разу, – говорит Люс, расхохотавшись, – «Напишите письмо девушке вашего возраста, чтобы укрепить её в учительском призвании».
– Нет, Люс, не то, у нас другая тема: «Заботиться о своём внутреннем мире, а не о внешней стороне жизни, – вот верный путь к счастью».
– Ну да! Вот ещё: «Что думаете вы о неблагодарности? Подкрепите свои рассуждения какой-нибудь вымышленной вами историей».
– Ты уже подготовила контурную карту?
– Нет, старушка, у меня не было времени её переделать. Меня наверняка накажут, подумай только: горы у меня на карте не заштрихованы, а линия Адриатического побережья не доведена до конца.
Я напеваю:
– По Адриатике мы поплывём…
– И сети в баркас возьмём, – подтягивает бойким голоском Люс.
Мы подхватываем тоном выше:
– Мы по морю плывём и сети везём!
И уже дружно поём вместе:
В море скорей, рыбаки!
К берегу, пенясь, катит прилив.
Волна захлёстывает островки,
Баюкая лодку в объятьях своих.
Сельские девы, покиньте свой дом.
По гальке к морю бегом.
По Адриатике мы поплывём
И сети в баркас возьмём.
Мы по морю плывём и сети везём…
– Помнишь, Люс, на этом самом месте Мари Белом неизвестно почему всегда пела на два тона ниже. Она уже за десять тактов до этого начинала дрожать, но песню это не портило. Припев!
Ночь прохладна, тиха,
Ждёт хороший улов рыбака.
Гребите, не стоит ждать.
Спокойна морская гладь!
– А теперь, Люс, накатывает большой прилив!
Вот королевы дорады.
Которым мы все очень рады,
Каракатица проплыла
Среди зарослей серебра.
А нежная радужница
В ласковых волнах резвится
В своём голубом корсаже.
Как богат наш улов!
Щедрых моря даров
Мы не ждали даже!
С увлечением, отбивая такт, мы допеваем до конца этот сногсшибательный романс и начинаем хохотать, как девчонки, ведь мы ими, в сущности, и остаёмся. Всё же от этих старых воспоминаний меня охватывает грусть; но разгулявшаяся Люс скачет на одной ножке, испуская радостные вопли, любуется на себя в зеркало «своего» трёхстворчатого шкафа…
– Люс, ты не жалеешь о Школе?
– О Школе? Когда за обедом я вспоминаю о ней, я прошу налить мне ещё шампанского и так объедаюсь засахаренным печеньем, что того и гляди разболится живот, я хочу наверстать упущенное и вознаградить себя за всё. Знаешь, я ещё не совсем рассталась со Школой.
Я смотрю, как она досадливо машет рукой на двухстворчатую ширму из лакированного дерева и шёлка, которая немного загораживает небольшую парту – скамья со спинкой, крышка стола, точь-в-точь как в Монтиньи, вся в чернильных пятнах, там валяются учебники грамматики и арифметики. Я подбегаю к парте, открываю тетради, заполненные аккуратным детским почерком Люс.
– Это твои старые тетрадки, Люс? Почему они здесь?
– Нет, к сожалению, это не старые тетрадки, это новые тетрадки! А большой чёрный передник ты найдёшь на вешалке в туалетной комнате.
– Что за странная мысль!
– О, чёрт побери, это дядюшкина выдумка, хуже не придумаешь! Ты представить себе не можешь, Клодина, – стонет Люс, скорбно вскидывая вверх руки, – он частенько заставляет меня снова заплетать косу, надевать просторную школьную блузу, садиться за эту парту… и потом диктует мне какую-нибудь задачку или тему для сочинения…
– Не может быть!
– Может. И вовсе не для смеха: я должна считать, писать сочинение, вот уж скучища так скучища! Первый раз, когда я отказалась это делать, он по-настоящему рассердился. «Ты заслуживаешь того, чтобы тебя высекли, и тебя высекут», – повторял он мне странным голосом, с горящими глазами! Господи, я так испугалась; и вот принялась трудиться.
– Значит, этого типа интересуют твои школьные успехи?
– Его это забавляет… приводит в хорошее настроение. Он напоминает мне Дютертра, который читал наши французские сочинения, запуская пальцы нам за шиворот. Но Дютертр был гораздо красивее дядюшки, это уж точно, – вздыхает бедняжка Люс, вечная школьница.
Я не могу прийти в себя от удивления! Ох уж эта псевдодевочка в чёрном школьном переднике и этот старичок сельский учитель, спрашивающий её о десятичных дробях…
– Ты не поверишь, дорогая Клодина, – продолжает Люс, всё больше мрачнея, – вчера он распекал меня, этот тип, совсем как моя сестрица в Монтиньи, за то, что я ошиблась в датах английской истории. Я взбунтовалась и крикнула ему: «Английская история – это уже училище, с меня хватит!» Дядюшка и бровью не повёл, а только сказал, закрывая книгу: «Если ученица Люс хочет получить хороший подарок, она должна будет рассказать мне без ошибок о "Пороховом заговоре"».
– И ты рассказала без ошибок?
– Бог мой, вот она, эта застёжка. Она того стоила: глянь-ка, топазы, а глаза у змеи – из маленьких бриллиантиков.
– Но подумай-ка, Люс, в конце концов, это высоконравственно. Ты сможешь сдать вступительные экзамены в училище в следующую сессию.
– Не беспокойся, – в бешенстве бросает Люс, потрясая своим кулачком. – Моя семейка за всё заплатит.
И потом, я ещё и сейчас ухитряюсь мстить: сажаю дядюшку на диету. В прошлом месяце я была нездорова целых две недели. Вот так!
– Он небось надулся?
– Надулся? Ну и умеешь ты найти словечко! – восхищённо фыркает Люс, откидываясь в кресле и показывая все свои белые короткие зубки.
В школе она тоже так смеялась – к огромному неудовольствию и даже бешенству Анаис. Сейчас меня это как-то коробит. Присутствие толстяка, над которым она насмехается, ощущается где-то рядом с нами, во всей этой роскоши кокотки. Гляди-ка, прежде у неё не было этой очаровательной складочки в том месте, где зарождается грудь…
– Люс, ты потолстела!
– Ты думаешь? Мне тоже так кажется. Кожа у меня и в Монтиньи была не такая уж смуглая, – говорит она, кокетливо придвигаясь ко мне, – а теперь стала ещё белей. Если бы только у меня выросли настоящие груди! Но дядюшке я больше нравлюсь плоскогрудой. Но они всё-таки у меня немножко округлились по сравнению с теми временами, когда мы устраивали состязания на той тропке в овраге, знаешь, Клодина?.. Хочешь взглянуть?
Оживлённая, ласковая, она придвигается ко мне и быстро расстёгивает розовую кофточку Кожа у самого основания грудок у неё такая тонкая, перламутровая, в обрамлении крепдешина она кажется голубой. Розовые ленты протянуты в кружева её сорочки (не забудем, по моде Империи!). А её глаза, зелёные глаза с чёрными ресницами, вдруг становятся странно томными.
– О Клодина!
– Что?
– Ничего… Я так рада, что встретила тебя! Ты ещё красивее, чем была там, хотя ещё более сурова со своей бедной Люс.
Ласковые руки обвивают мою шею. Боже, до чего у меня болит голова!
– Какими это духами ты душишься?
– Кипрскими. Неплохие, по-моему? О, поцелуй меня, ты всего только раз поцеловала меня… Ты спрашивала, не жалею ли я о Школе? Да, Клодина, я жалею о том сарайчике, где мы кололи дрова в полвосьмого утра и где я тебя целовала, а ты меня била! Ну и задавала же ты мне трёпку, злючка! Но скажи, ты всё-таки заметила, что я стала красивей? Я моюсь каждое утро, намываюсь прямо как твоя Фаншетта. Ну останься ещё немножко! Останься! Я сделаю всё, что ты захочешь. И потом, дай я тебе кое-что шепну на ушко… Я теперь столько всякого знаю…

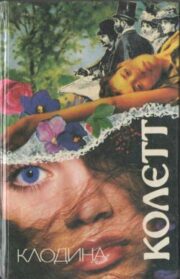
"Клодина в Париже" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в Париже". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в Париже" друзьям в соцсетях.