Твой душой и телом,
Твой Шарли.
Вот и всё. Что мне сказать? Я несколько смущена этими историями мальчишек. Меня ничуть не удивляет, что отца Марселя это тоже покоробило… О, конечно, я знаю, очень хорошо знаю, что мой «племянник» – «лакомый кусочек» и более того. Но тот, другой? Марсель целует его, целует этого любителя красивых слов, этого плагиатора, целует, несмотря на чёрные усики? Марселя, верно, целовать приятно. Я искоса взглядываю на него, прежде чем вернуть ему письмо; он и не думает обо мне, не собирается спрашивать моего мнения; опершись подбородком на кисти рук, он о чём-то размышляет. Меня внезапно смущает его столь очевидное в эту минуту сходство с моим кузеном Дядюшкой, я протягиваю ему листки.
– Марсель, ваш друг пишет гораздо красивее, чем Люс в своих письмах.
– Да… Но разве не вызывает у вас негодования та глупая жестокость, с которой изгнали этого очаровательного Шарли?
– Негодование – возможно, не совсем то слово, но я удивлена. Потому что, хотя в этом мире может существовать только один-единственный Марсель, однако, как я думаю, коллежи скрывают в себе и других Шарли.
– Других Шарли! Но, Клодина, не станете же вы сравнивать его с теми грязными лицеистами, которые…
– Которые что?
– Я, пожалуй, нарисую вам всю картину, хорошо?.. Вот что, налейте-ка мне чего-нибудь выпить и дайте штучку рахат-лукума; меня просто бросает в жар, когда я обо всём этом думаю.
Он вытирает лицо платочком из тонкого голубого батиста. Я поспешно протягиваю ему стакан холодного грога, он кладёт бумажник около себя на плетёный столик и, всё ещё возбуждённый, откидывается на спинку стула и пьёт маленькими глотками. Он сосёт розоватый лукум, грызёт солёное печенье и погружается в воспоминания о своём Шарли. А я, сгорая от любопытства так, что готова кричать, спрашиваю себя, какие ещё письма могут храниться в этом бумажнике из зелёной кожи. Я порой испытываю (слава Богу, не слишком часто) какое-то постыдное и неукротимое искушение, такое же жадное, как страстное желание что-то украсть. Я, конечно, вполне отдаю себе отчёт в том, что Марсель застигнет меня, когда я стану рыться в его письмах, он вправе будет меня презирать и несомненно выскажет это презрение, но от этой мысли краска стыда не заливает мне щёки, как полагалось бы написать в школьном сочинении. Ничего не поделаешь! Я небрежно ставлю тарелку с печеньем на заветный бумажник. Выйдет так выйдет.
– Клодина, – говорит Марсель, словно пробуждаясь от сна, – бабушка считает вас дикаркой.
– Это верно. Но я не умею с ней разговаривать. Что вы хотите, ведь я её совсем не знаю…
– Это, впрочем, неважно… Боже мой, до чего безобразной стала Фаншетта!
– Молчите! Моя Фаншетта всегда восхитительна! Ей очень нравится ваш отец.
– Меня это не удивляет… он такой симпатичный! Произнеся эти любезные слова. Марсель встаёт, засовывает свой батистовый платочек в левый карман… ой!., нет, не вспоминает об этом. Хоть бы он поскорее ушёл! На секунду я припоминаю, как вытащила в Школе из печки полусгоревшие нежные записочки Анаис, побуждаемая вот таким же приступом любопытства… я не чувствую угрызений совести. Впрочем, он насмехался над своим отцом, он скверный мальчишка!
– Вы уходите? Уже?
– Да, мне пора. И уверяю вас, я всегда испытываю сожаление. Ведь вы наперсница, о которой только можно мечтать, и в вас так мало чисто женского!
Да уж, любезней быть нельзя! Я провожаю его до самой лестницы, чтобы удостовериться, что дверь закрыта как следует и, если он вернётся, ему придётся позвонить.
Скорей за бумажник! От него хорошо пахнет; полагаю, это духи Шарли.
В маленьком кармашке – портрет Шарли. Поясной портрет на фотографии-открытке, он с голыми плечами, с повязкой на лбу на манер древних греков; стоит дата «28 декабря». Заглядываю в календарь: «28 декабря, Невинные Мученики». Вот уж действительно, случайности альманаха порой бывают весьма кстати!
Горстка писем, посланных по пневматической почте, почерк удлинённый и претенциозный, небрежное правописание: назначаемые или отменяемые свидания. Две записки подписаны… Жюль! Вот уж Анаис разинула бы рот от удивления. Среди этой корреспонденции – фотография женщины! Кто это? Очень красивое создание, восхитительно тоненькая, покатые бёдра, скромное декольте в кружевах с блёстками; приложив пальцы к губам, она посылает воздушный поцелуй; внизу фотографии та же подпись… Жюль! Как! Это мужчина? Ну-ка поглядим! Я напряжённо всматриваюсь, потом бегу отыскиваю папину старинную великолепную лупу, тщательно изучаю фотографию: запястья у этого «Жюля» выглядят, пожалуй, слишком крепкими, но всё же не такими шокирующими, как у Мари Белом, не будем называть никого другого; бёдра не похожи на мужские, как и округлые плечи, однако мускулы на шее, под ухом, заставляют меня всё больше колебаться. Да, шея как у эфеба, юноши; теперь мне кажется это заметным… раз уж я знаю. Всё равно… Продолжим поиски.
На кухаркиной бумаге, в кухаркином стиле, да и правописание кухаркино, какие-то туманные сведения:
А по мне, так не советую вам идтить на улицу Траверсьер, но вы ничем не рискуете, коли проводите меня к Леону; это удобная зала рядом с пивнушкой, о которой я вам говорил, и там вы увидите разных особ, с ними стоит познакомиться, жокеи из Медрано и так далее. А что касаемо Эрнестины и Долгоносицы, будьте осторожней! не думаю, что Викторина всё уже решила. На улице Лафита Бабка должна вам сказать, что гостиница эта место надёжное.
Хорошенькая публика! Вот этот-то сброд Шарли и «принёс в жертву» Марселю! И он ещё осмеливается этим похваляться! Но больше всего меня поражает, что мой «племянник» не испытывает отвращения, соглашаясь принимать эти объедки былых привязанностей, где находилось место для всяких Долгоносиц, жокеев и так далее… Зато я прекрасно понимаю, что Шарли в конце концов осточертели слишком услужливые сутенёры Жюли – взять хоть эту невероятную фотографию! – и ему показалось восхитительным испытать свежее ощущение при встрече с мальчуганом, наделённым невероятной чувствительностью и щепетильностью, победа над которой должна была доставить такое наслаждение…
Нет, решительно этот Шарли внушает мне отвращение. Мой кузен Дядя был совершенно прав, когда заставил вышвырнуть его из лицея Буало… У такого смуглого черноволосого парня, должно быть, и на груди растут волосы…
– Мели! Съезди поскорее к тётушке Кёр, возьми фиакр, надо отвезти этот пакет Марселю вместе с письмом, которое я ему напишу. Не оставляй только у консьержа…
– Уж письмо-то, люди добрые! Само собой, я отнесу его наверх! Ты моя раскрасавица! Будь спокойна, мой цыплёночек, все будет передано. Никто и глазом моргнуть не успеет!
Ей я могла довериться. Её преданность подогревалась мыслью, что я могу отважиться на… Не стоит выводить её из заблуждения. Раз это её так радует.
Однако на Фаншетту и в самом деле становится как-то смешно смотреть. На свою «парижскую» корзинку она соглашается лишь при условии, что я положу туда кусок своего старого вельветового халата. Она энергично разминает лапками этот клочок, царапает его когтями, сбивая в комок под себя, греет своим телом, а то и вылизывает – видимо, в мечтах о своём будущем потомстве. Соски её набухли и стали болезненными при прикосновении; она просто одержима мучительным желанием, чтобы её гладили, «приласкали», как говорят у нас в Монтиньи.
Сияющая Мели приносит мне записочку от Марселя с благодарностью за возвращенный бумажник!
Спасибо, дорогая, я ничуть не был обеспокоен (да уж, чёрт побери!), зная, что бумажник в ваших милых ручках, которые я нежно целую, умеющая хранить тайну Клодина.
«Умеющая хранить тайну Клодина». Это может быть и иронией, и просьбой молчать.
Папа работает с господином Мариа; это означает, что он доводит до изнеможения несчастного малого, заставляя его перетаскивать с места на место все свои книжки. Сначала он сам, подкрепляя себя страшными ругательствами, прибил двенадцать полок к стене библиотеки, двенадцать полок, предназначенных для книг в восемнадцатую долю листа большого формата – 56x72. Превосходная работа! Только вот, когда тихий, преданный, по уши в пыли господин Мариа захотел расставить эти фолианты, он обнаружил, что папа ошибся на сантиметр, размечая расстояние между полками, и книги не могут на них стоять прямо. Так что приходилось отрывать от стены все эти проклятые доски, кроме одной. Нечего сказать, хорошо помогли папины «Чёрт побери!» и «Разрази меня гром». Меня просто сразила эта катастрофа. А господин Мариа в своём божественном терпении только проговорил:
– О, это ничего, мы просто немного раздвинем одиннадцать полок.
Сегодня я получила огромный пакет прекрасных шоколадных конфет, само собой, с письмом от моего кузена Дядюшки:
Мой милый прелестный дружок, ваш старый дядюшка нашёл себе сегодня замену в виде этого пакета, и, надеюсь, вы об этом не пожалеете. Я на недельку или дней на десять уезжаю по делам. По моему возвращению, если вам будет угодно, мы сможем изучить множество других развлекательных и плохо проветриваемых заведений. Проявите заботу о Марселе, он – без всяких шуток – немало выигрывает от общения с вами. Целую с дядюшкиной нежностью ваши ручки.
Ну так вот – без всяких шуток, – я предпочла бы Дядюшку, а не шоколад. Или лучше – и Дядю, и шоколад. Впрочем, конфеты потрясающие. Люс продалась бы за половину этого пакета. Постой, Фаншетта, если ты хочешь, чтобы я тебя пристукнула, можешь продолжать в том же духе! Это маленькое чудовище очень ловко засунуло в открытый пакет свою лапу на манер ложки; однако получит она лишь половинки шоколадных бомбочек, да и то, когда я толстым концом нового пера извлеку из них сливочную начинку.
Я не видела Марселя два дня. Я немного стыжусь того, что мне лень навещать тетушку Вильгельмину, и сегодня я иду туда, не испытывая особого воодушевления, хотя и принарядилась для этого. Я очень люблю свою облегающую костюмную юбку и блузку из блёклого голубого зефира, благодаря которой кожа моя кажется оранжеватой. Перед тем как отпустить меня, папа торжественно изрёк:

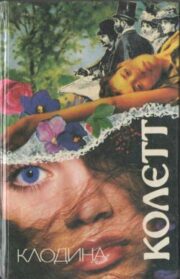
"Клодина в Париже" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в Париже". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в Париже" друзьям в соцсетях.