Да, у неё острый ум и золотые руки. Я прихожу в восхищение, видя, как она, ни на минуту не переставая болтать, мастерит прелестную шляпку или восхитительное кружевное жабо: изделия её не уступят по красоте работам самых искусных мастериц лучших модных магазинов Парижа. Но сама Марта отнюдь не похожа на мастерицу. Маленькая, пухленькая, с очень тонкой, туго стянутой талией и полными бёдрами, которыми она покачивает при ходьбе, она гордо несёт свою золотисто-огненную головку (тот же цвет волос, что и у Алена) с блестящими, пронзительными серыми глазами. Лицо маленькой поджигательницы (в том смысле, в каком это слово употребляли коммунары), которое она очень умело превращает в личико дамы восемнадцатого века. Облачко рисовой пудры, немного губной помады, платье из шуршащего шёлка, затканного гирляндами, блузка с острым вырезом и очень высокие каблучки. Клодина (эта насмешница Клодина, с которой мне не следует слишком часто встречаться) нередко называет её «маркизой на баррикадах».
Эта революционерка Нинон сумела полностью (я узнаю кровь Алена) подчинить себе мужа, которого покорила после недолгой борьбы. Леон для Марты – в какой-то степени то же, что и Анни для Алена. Я всегда называю его про себя «этот бедный Леон», хотя он отнюдь не выглядит несчастным. Он высокий, стройный брюнет с правильными чертами лица, остроконечной бородкой, миндалевидными глазами, с мягкими и гладкими волосами. Типичный уравновешенный француз. Хотелось бы, чтоб у него был резче очерчен профиль, упрямее подбородок, круче лоб и поменьше снисходительности в чёрных глазах. Он немного – это сказано слишком зло, и мне не следовало бы записывать – напоминает, как утверждает эта злючка Клодина, главного продавца из отдела шёлковых тканей, она однажды дала ему прозвище: «Что угодно сударыне?» И это прозвище осталось за бедным Леоном, на которого Марта смотрит как на выгодную статью дохода.
Она ежедневно запирает его на три или четыре часа в кабинете, и благодаря подобному методу он выдаёт, как сказала мне сама Марта, вполне приличную продукцию, один целый роман и ещё две трети в год, чего хватает, добавила она, лишь на «самое необходимое».
Существуют же на свете такие энергичные, предприимчивые и даже жестокие женщины, которые, строя своё благополучие, рассчитывают на склонённого над письменным столом человека, который всё пишет и пишет и неплохо себя при этом чувствует. Нет, такого мне никогда не понять. Временами я осуждаю Марту, а порой она вызывает у меня восхищение и даже немного пугает.
Сознавая, что она обладает чисто мужским властным характером, позволяющим ей эксплуатировать кроткого Леона, я, однажды расхрабрившись, сказала ей:
– Марта, ты и твой муж – противоестественная пара.
Она сначала остолбенела от изумления, потом разразилась громким смехом – ещё немного, и с ней бы случилась истерика.
– Нет, взгляните на эту Анни, она иногда такое выдаст! Никогда не смей никуда и носу показывать без толкового словаря. Противоестественная пара! Хорошо ещё, что тебя, кроме меня, никто не слышал – в наше-то время, когда…
И всё-таки Ален уехал! Даже болтовня не может заставить меня позабыть об этом. Что мне делать? Жить без него нестерпимо… А не уехать ли мне в деревню, в Казамену, в наш старый дом, который оставила нам моя бабушка Лажарис, чтобы никого, никого не видеть, пока он не вернётся?..
Но тут в мою комнату влетела Марта и шумом своих накрахмаленных юбок и взмахами накрахмаленных рукавов вспугнула мои смешные мечты. Я торопливо спрятала тетрадь.
– Ты одна? Поедешь со мной к портному? Одна в этой мрачной комнате! Безутешная вдова, вот ты кто…
Её неуместная шутка, её поразительное сходство с братом, несмотря на пудру, шляпку «Трианон» и изящный зонтик с длинной ручкой, заставили меня вновь расплакаться.
– Полно, Анни! Ты последняя… из настоящих жён. Поверь мне, он вернётся, даю тебе слово. А я-то, недостойная, по простоте своей воображала, что после его отъезда – во всяком случае первое время – у тебя будет что-то вроде школьных каникул, тебе захочется попроказничать…
– Попроказничать? Ну-у, Марта…
– «Ну-у, Марта…» А что я такого сказала? Впрочем, здесь как-то пусто стало, – проговорила она, пройдясь по спальне, по моей спальне, где, однако, после его отъезда ничего не изменилось.
Я вытерла слёзы, на что у меня всегда уходит немало времени, слишком густые у меня ресницы. Марта замечает со смехом, что у меня «вокруг глаз растут волосы».
Марта стоит ко мне спиной, облокотившись обеими руками о доску камина. На ней (мне кажется, одета она не по сезону) платье из сурового полотна, затканного маленькими бледными розами, что сейчас уже вышло из моды, с высокой талией и юбкой в сборку, поверх него она крест-накрест повязала платок, как на картинах Виже-Лебрен. Её рыжие волосы высоко зачёсаны и обнажают затылок, что уже в стиле Эллё. Всё это не слишком хорошо сочетается между собой, но не лишено изящества. Свои замечания я сохраню для себя. Впрочем, разве я когда-нибудь высказываю своё мнение вслух?..
– Что ты так внимательно изучаешь. Марта?
– Я рассматриваю портрет моего высокочтимого братца.
– Алена?
– Ты угадала.
– И что ты там увидела?
Она отвечает не сразу. Потом, повернувшись ко мне, громко смеётся.
– Просто удивительно, до чего ж он похож на петуха!
– На петуха?
– Ну да, на петуха. Взгляни сама.
Возмущённая её кощунственными словами, я машинально беру сделанный по фотографии портрет сангиной, который мне очень нравится. Муж изображён летом в саду, он без шляпы, рыжие волосы подстрижены бобриком, у него надменный вид, держится он очень прямо… Это его обычная поза. Он похож… на красивого, сильного молодого мужчину, вспыльчивого и энергичного; и в то же время он похож на петуха. Марта права. Да, на золотисто-рыжего петуха, блестящего, с красивым гребнем и шпорами… Я как будто снова переживаю разлуку с ним и опять заливаюсь слезами. Моя золовка удручённо поднимает руки к небу.
– Нет, право, с тобой нельзя даже говорить о нём! Ты прелюбопытный случай, моя дорогая! Как же мы с тобой поедем к портному, если у тебя распухли глаза! Неужели я обидела тебя?
– Нет-нет, ты тут ни при чём… Не волнуйся, сейчас всё пройдёт.
Не могу же я ей сказать, что я в полном отчаянии от того, что Ален похож на петуха и, главное, что я сама заметила это сходство… На петуха! Надо же было ей мне об этом сказать…
– Сударыня плохо спала этой ночью?
– Нет, Леони…
– У сударыни синяки под глазами… Ей бы следовало выпить рюмочку коньяку.
– Нет, спасибо. Я лучше выпью, как обычно, чашку какао.
У Леони одно средство от всех болезней: рюмочка коньяку. Думаю, она каждый день проверяет на себе его целебное действие. Я её немного побаиваюсь, потому что она огромного роста, действует всегда очень решительно, с силой хлопает дверью и, когда шьёт в бельевой, громко насвистывает разные военные сигналы, словно кучер, демобилизовавшийся недавно из армии. Впрочем, служит она мне усердно, хоть и с лёгким оттенком презрения, уже четыре года, с тех пор как я вышла замуж за Алена.
Я чувствую себя бесконечно одинокой в своей спальне при пробуждении, я говорю себе, что прошли только сутки после отъезда Алена, и мне надо собрать всё своё мужество, чтобы заказать обед и ужин, позвонить в «Городскую компанию», просмотреть расчётные книжки!.. Вероятно, так же неуверенно чувствует себя в первый день занятий школьник, не выполнивший летних заданий. Вчера я так и не поехала с Мартой на примерку. Я не могла простить ей петуха… Сослалась на усталость и на то, что у меня покраснели и опухли глаза.
Сегодня я хочу стряхнуть с себя апатию и, раз такова воля Алена, побываю у Марты – сегодня у неё приёмный день, – хотя пройти одной, без моего обычного спутника, через её огромную гостиную, полную женского щебетания, для меня настоящая пытка. А не могла бы я, как говорит Клодина, «сказаться больной»? Нет, я не смею ослушаться своего мужа.
– Какое платье наденет сударыня?
Вот именно, какое платье? Ален не стал бы ни минуты раздумывать, он взглянул бы в окно на погоду, на меня, на список возможных посетителей, и его безошибочный выбор удовлетворил бы всем требованиям…
– Моё платье из серого крепа, Леони, и шляпку с бабочками…
Пепельно-серые бабочки с крылышками, испещрёнными розовыми и оранжевыми полумесяцами, кажутся мне очень забавными.
Вот я и готова! Надо признаться, несмотря на своё огромное горе, я не слишком подурнела. Шляпа с бабочками безукоризненно сидит на моих пышных, гладко зачёсанных на косой пробор волосах, тяжёлый пучок низко положен на затылке, робкие бледно-голубые глаза кажутся ещё светлее от недавно пролитых слёз, мой вид наверняка приведёт в ярость Валентину Шесне – она всегда посещает салон моей золовки и терпеть не может меня, потому что (я это чувствую) ей, бесспорно, очень и очень нравится мой муж. Кажется, эту женщину вынули из ванны с обесцвечивающей жидкостью. Волосы, лицо, ресницы – всё у неё одного и того же бело-розового цвета. Она румянится, чернит ресницы (мне об этом сказала Марта), но ничего не помогает, она остаётся такой же анемичной и бледной.
Она будет сидеть на своём обычном посту, спиной к свету, чтобы не было видно мешков под глазами, подальше от цветущей глупенькой Роз-Шу, невыгодного соседства с которой она опасается, она наговорит мне через всю гостиную кучу всяких гадостей, а я, как всегда, ничего не сумею ответить, я буду смущённо молчать, что вызовет смех у других трещоток, и они снова назовут меня «маленькой чёрной гусыней». Ален, мой властный Ален, лишь ради вас я подвергну себя этим мучительным уколам!
Уже из прихожей я слышу несносное женское щебетание, сопровождаемое звяканьем чайных ложечек, и у меня от страха холодеют руки.
Шесне, конечно же, здесь. Все они в сборе, и все без умолку болтают, кроме Кандер, поэтессы-подростка, чья молчаливая душа расцветает лишь в её великолепных стихах. Она неизменно молчит, медленно обводит присутствующих своими муаровыми глазами и смущённо и сладострастно покусывает свою нижнюю губу, будто эта губа принадлежит другой…

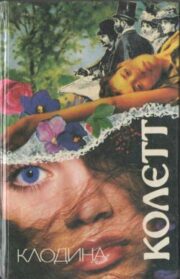
"Клодина уходит…" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина уходит…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина уходит…" друзьям в соцсетях.