– Нет, нет! Так не надо! – вмешивается Каллиопа, склонившись над моим плечом. – Нехорошо: «другая рука»… Напишите «та же рука».
Но я не в силах больше писать. Положив голову на стол, я внезапно разражаюсь рыданиями, досадуя на себя, что не сумела сдержать слёз… Игра плохо закончилась. Славная маленькая Каллиопа понимает – правда, не совсем правильно – причину моих слёз, она обвивает мою шею руками, обдаёт своими духами, согревает своим сочувствием, сетует на себя, огорчённо восклицает:
– Дорогая! Psichi mou![21] Какая я плохая! Я не подумала, что вы сейчас одна! Дайте мне письмо, хватит. Я больше не хочу. Впрочем, этого достаточно. Начало есть, и дальше можно менять, я поставлю palazzo[22] вместо «дома», а во французских романах найду остальное.
– Простите меня, дружочек. Надвигающаяся гроза страшно расстроила мои нервы.
– Нервы! Если бы всё дело было в нервах, – глядя в потолок, говорит наставительно Каллиопа. Её спокойный и циничный жест так странно договаривает остальное, что я невольно улыбаюсь. Она смеётся.
– Ведь это так? Addio,[23] many thanks,[24] и простите меня. Я беру с собой начало письма. Не расставайтесь с мужеством.
Она уходит, снова возвращается, просовывает в дверь свою головку лукавой богини:
– И я даже спишу его два раза! Потому что у меня есть ещё один друг.
«Воды Арьежа, содержащие в себе соли и серу, особенно рекомендуются при хронических кожных заболеваниях…»
Клодина читает вслух маленькую брошюрку с очень заманчивой яркой обложкой, которую администрация водолечебницы преподносит всем посетителям. В последний раз мы слушаем жалкий оркестр, который всё время с мрачным упорством, без всяких нюансов играет фортиссимо. В антракте между исполнением «Драгунов» Виллара и «Маршем» Арманда Полиньяка Клодина, не спросив нашего согласия, знакомит нас с целебными свойствами серных источников и тут же вставляет свои комментарии. Дикция у неё прекрасная, она словно читает лекцию, сохраняя полную невозмутимость.
Её белая кошечка на поводке спит на плетёном соломенном стуле. «Приходится платить за стул два су, как для человека, – объявила Клодина, – на железном стуле она не может спать, у неё зябнет зад».
– Сейчас мы с вами сыграем в интересную игру! – восклицает она вдохновенно.
– Я бы поостерёгся играть, – мягко говорит её муж и с нежностью смотрит на неё. Он курит душистые египетские сигареты, говорит очень редко, безучастен ко всему, вся его жизнь словно сосредоточилась в той, которую он называет «своим милым ребёнком».
– Чудесная игра! По вашим лицам я стану отгадывать, кто из вас какие болезни здесь лечит, и если я ошибусь, то отдам вам свой фант.
– Дайте мне этот фант сразу, – кричит Марта. – Я отлично себя чувствую.
– Я тоже, – ворчит Можи, у него багровое лицо, и он надвинул на нос панаму.
– Я тоже, – тихо вторит Рено.
– И я тоже! – вздыхает бледный, измождённый Леон.
Клодина, прехорошенькая в своей белой шляпке с мягкими полями, завязанной под подбородком белой тюлевой лентой, грозит нам всем своим тоненьким пальцем.
– Не возражать! Сейчас они все станут меня уверять, что приехали сюда ради собственного удовольствия… как я!
Она снова берёт в руки свою книжку и начинает ставить диагнозы с таким видом, будто преподносит цветы.
– Марта, у вас «угри на лице и экзема»! А у вас, Рено… сейчас посмотрим… вот, «фурункулёз». Согласны, звучит очень красиво. Можно подумать, что это название цветка. А Анни, я догадываюсь, периодически страдает «рожистым воспалением», Леон – «золотушной анемией» и…
– …благодарю, а к нему вы весьма снисходительны, – прерывает её Рено, заметив, что Леон криво улыбается.
– …а у Можи, у Можи… чёрт побери, я больше ничего не нахожу… Ах, нет, вот, пожалуйста! У Можи «рецидивирующий пузырчатый лишай детородных органов».
Взрыв хохота! Марта хохочет во всё горло и вызывающе смотрит прямо в лицо разъярённому Можи, который сдвигает на затылок свою панаму и собирается отчитать дерзкую насмешницу. Рено не слишком убедительно пытается восстановить тишину, так как группа отдыхающих, расположившаяся позади нас, с шумом, опрокидывая стулья, возмущённо удаляется.
– Не обращайте внимания, – бросает Клодина. – Они ушли, – она снова берётся за свой проспект, – потому что просто завидуют, ведь они страдают какими-то пустячными заболеваниями вроде «хронического метрита», или жалкого «катара уха», или же самых заурядных белей, которые и гроша ломаного не стоят.
– А вы сами, маленькая злючка, – взрывается Можи, – какого дьявола, вы-то сюда явились лишь для того, чтоб изводить честных людей?
– Тс-с-с! – Она наклоняется к нему с таинственным и важным видом. – Только никому ни слова об этом. Я приехала сюда ради Фаншетты, она страдает тем же заболеванием, что и вы.
Байрет
Дождь, бесконечный дождь… Словно само небо обрушилось на нас, затопило нас потоками дождя, а небо здесь – сплошной уголь. Стоит мне только облокотится о подоконник, как на руках и локтях остаются чёрные полосы. Та же чёрная неуловимая пыль незаметно садится на моё белое саржевое платье, а если я нечаянно провожу ладонью по щеке, то чувствую, как под ней скрипит клейкий и мокрый уголь. Брызги дождя засохли на воланах моей юбки, словно маленькие серые звёздочки. Леон с видом сентиментального жандарма долго и тщательно чистит и мои платья, и платья Марты. Это, заявила она, напоминает ей родные места, Сент-Этьен.
На западе небо пожелтело. Может быть, дождь прекратится и я смогу увидеть Байрет не только сквозь эту тонкую и гладкую сетку дождя или сквозь туман своих горьких слёз.
Потому что с тех пор, как мы сюда приехали, из моих глаз непрестанно льются потоки слёз, подобно тому как с неба льются потоки дождя. Мне даже немного стыдно писать о том, чем вызван этот приступ отчаяния, ведь причина совсем пустяковая.
Мы сошли, как нам и следовало, с поезда Нюрнберг—Карлсбад в Шнабельвайде, но поезд отошёл слишком быстро и бестолково – такое редко бывает в Германии – и умчал в Австрию мой несессер с туалетными принадлежностями и чемодан, и вот, после пятнадцати часов, проведённых в поезде, вся пропитанная угольной пылью, пахнущая серой и йодоформом, я осталась без губки, без лишнего носового платка, без гребешка, без… без всего того, без чего я не могу обойтись, и так пала духом, что, пока Леон и Можи отправились наводить справки, я горько расплакалась прямо на перроне вокзала, я плакала крупными слезами, и они, падая, свёртывались в шарики пыли.
– Ах уж эта мне Анни, – философски-спокойно прошептала Клодина, – настоящая мокрая курица.
Вот почему у меня был такой жалкий и нелепый вид, когда мы прибыли в Священный город. Марта могла из снобизма сколько угодно восторгаться во всеуслышание почтовыми открытками, чашами Грааля из красного стекла, безвкусными картинами, деревянными статуэтками, расписными тарелками, пивными кружками – всё это с изображением божественного Вагнера, – я ни на что не обращала внимания, я едва улыбнулась даже тогда, когда Клодина, растрёпанная, в соломенной шляпе набекрень, потрясла перед самым моим носом длинной дымящейся сосиской, которую она купила где-то неподалёку, возле вокзала.
– Посмотрите, что я купила, – крикнула она, – их продаёт какой-то тип, похожий на почтальона. Да, Рено, настоящий почтальон! У него сосиски варятся в кожаной почтовой сумке, и он вылавливает их вилами, будто это змеи. И незачем вам надувать губки, Марта, это восхитительно. Я отправлю такие сосиски Мели и напишу ей, что здесь их называют Wagner-wurst.[25]
И она удалилась своей танцующей походкой, увлекая за собой своего ласкового мужа, повела его в выкрашенную в лиловый цвет conditorei,[26] чтобы съесть там свою сосиску вместе со взбитыми сливками.
Благодаря усилиям подгоняемого Мартой Леона и полиглотизму Можи, говорящего на стольких немецких диалектах, сколько имеется родовых колен в Израиле, и сумевшего совершенно непонятной для меня фразой расшевелить вежливо улыбающихся и апатичных чиновников, я получила обратно свои чемоданы, получила как раз тогда, когда Клодина, видя, в каком жалком положении я оказалась, прислала мне одну из своих рубашек из очень тонкого батиста, такую короткую, что я даже покраснела, и панталончики из японского шёлка, усеянные жёлтыми полумесяцами, с запиской: «Примите это от меня, Анни, может, они пригодятся вам хотя бы для того, чтоб утереть ваши слёзы. Видите, во мне есть что-то от святого Мартина! Да ещё кто знает, отдал бы святой Мартин свои панталоны?»
Я лениво жду, когда прекратится дождь и мы отправимся обедать. Клочки голубого неба то вдруг появляются в просветах между косматыми чёрными тучами, то исчезают. Моё окно выходит на Опернштрассе, где под деревянным тротуаром плещется зловонная вода. На лестнице пахнет капустой. Моя кровать до странности напоминает гроб. Днём её накрывают какой-то удивительной крышкой, обитой пёстрой тканью с разводами. Пододеяльник пристёгивается к одеялу на пуговицах, матрас состоит из трёх частей, как шезлонги во времена Людовика XIV… Нет, определённо нет, я не испытываю никакого священного трепета. Я завидую Марте, которая, стоило ей оказаться на вокзале, тотчас же прониклась полагающимся в подобном случае восторгом и испытывает, если выражаться пышным слогом её мужа, «благоговение всех народов мира, пришедших поклониться сверхчеловеку»… Я слышу, как за дощатой стеной эта неофитка расправляется с чемоданами и расплёскивает горячую воду, которую приносят здесь в маленьких кувшинах. Леон что-то негромко говорит. Молчание Марты не предвещает ничего хорошего. И я даже не слишком удивлена, когда до меня доносится пронзительный резкий голос Марты, отнюдь не в стиле Марии-Антуанетты:
– Чёрт! Что за отвратительная дыра!
Единственное, что радует меня, что позволяет спокойно стоять у моего окна возле безвкусного, красного дерева, столика на одной ножке, – это сознание, что я нахожусь далеко, вне досягаемости… Сколько времени прошло с тех пор, как уехал Ален? Месяц, год? Не знаю. Я пытаюсь вызвать в своём воображении его полузабытый образ, иногда я начинаю прислушиваться, мне чудится шум его шагов… Жду ли я его возвращения или опасаюсь его? Порой я резко оборачиваюсь с чувством, что он стоит здесь, за моей спиной, что он сейчас опустит свою сильную руку на моё плечо и оно тут же согнётся под её тяжестью… Это длится лишь короткое мгновение, но я вижу в этом предостережение, я не сомневаюсь: вернись он сейчас, он бы снова стал моим повелителем, и моя шея покорно склонилась бы под этим ярмом, которое я носила ещё недавно, подобно тому как я ношу обручальное кольцо, которое Ален надел мне в день нашей свадьбы, хотя оно мне слишком узко и впивается в палец.

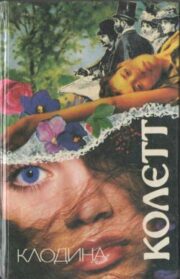
"Клодина уходит…" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина уходит…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина уходит…" друзьям в соцсетях.