В подъезд зашли вместе. Красавец подозрительно оглядел Слуцкого, но ничего не сказал и вызвал лифт. Слуцкий вошёл в кабину вслед за ним. Оба нервничали, и каждый ощущал нервозность другого. Слуцкий заметил, как тот сжал ручку кейса — видно, готовился пустить его в ход, если понадобится. Лифт остановился, молодой человек вышел из кабины и направился к своей двери. Слуцкий сделал шаг в его сторону.
— Подождите. Я поговорить с вами хочу.
Тот обернулся, глаза неприветливо сузились, но испуга в них не было.
— Вы кто? И что вам надо?
— Я — Слуцкий Иван Антонович. Давайте спустимся туда, — он махнул рукой в сторону площадки между этажами, щедро засыпанной окурками. Видно, говорить именно там охотников было много.
— Вы уж извините, но не знаю даже, как вас зовут, — продолжал Слуцкий.
— Щербаков Василий Юрьевич.
В течение недели настроение Анюты Слуцкой менялось каждый день. Иван Антонович наблюдал за дочерью и понимал, что обещание Василия Щербакова разобраться в своих запутанных любовных отношениях в ближайшее время решается этим самым Василием не в пользу его дочери. Но по крайней мере, не обманул насчёт времени. Обещал в ближайшее — ближе уж некуда. Ещё обещал не говорить Анютке про их встречу, про то, что выслеживал его Слуцкий до самого подъезда. Похоже, в самом деле не сказал. Но каков паразит! Даже свидание ей назначал в районе своего дома на Краснопролетарской, чтобы не тратить время на дорогу!
Наблюдать за дочерью было очень тяжело. Она страдала. По её воспаленным глазам Иван Антонович понимал, что дочь, оставшись одна, плачет. Потом она словно окаменела. Казалось, её ничто больше не волнует, ничто не интересует.
Через пару недель Аня сама завела с отцом разговор об отъезде в Америку.
— Если у тебя не изменились планы, давай вместе. Ты и я. Как ты говорил-то? Сервиз?
На другой день он принес из Академии наук бланки анкет и запрос в МГУ на оформление характеристики Слуцкой Анны Ивановны. Подготовка документов для выезда в цитадель капитализма была основательной и суровой. До отъезда оставалось два с половиной месяца.
Когда именно Аня узнала о своей беременности, Иван Антонович, разбирая потом по минутам это время перед отъездом из Союза, так и не понял. Отцу она сказала об этом в самый последний момент, когда настала пора собирать чемоданы.
— Па, ты прости меня, что постоянно заставляю тебя волноваться. То со мной одно, то другое…
Она присела на край стула и сжала пальцы так, что по обозначившимся костяшкам можно было изучать строение руки. Вдруг резко встала, подошла к отцу и порывисто его обняла.
— Па, я не могу с тобой лететь. Может быть, потом, не сейчас. Я должна остаться.
— Почему? — сухо спросил Слуцкий.
— Я беременна. Аборт делать не хочу. Буду рожать.
— А он… Отец твоего ребёнка… Знает?
— Да.
— И что?
— Он меня не поддерживает, — еле слышно прошептала она.
Слава Богу! — подумал Иван Антонович. Может, удастся убедить её в том, что ребёнок сейчас ей не нужен, если сам отец не хочет его появления на свет. А если ей так уж хочется рожать, пусть рожает там. По крайней мере, они будут вместе, и хоть одна родная душа о ней позаботится. Оставаться же в Москве — чистое безумие! Квартира служебная — её надо освобождать. И что же? Возвращаться в Воронеж? Ютиться в общежитии МГУ? Неужели это лучше, чем отправиться с отцом в Америку?
— Прости меня, па! Я очень тебя люблю, но его тоже. Я жить без него не могу. — Она заплакала. — У него нет детей, и, может, когда я рожу, он не захочет с нами расставаться…
Иван Антонович так и запомнил дочь — в слезах, жалкую, растерянную, готовую унижаться перед этим хлыщом. Его охватила отчаянная злость и обида на дочь. Нельзя, чёрт возьми, забывать о своём самолюбии, гордости женской. И чувство ответственности должно быть, в конце концов! Она не понимает, что подводит его своим отказом лететь вместе? Хорошо же он начинает свою командировку! И вообще! Ей наплевать, как он там будет совсем один. Если бы сказала сразу, что не поедет, когда он ещё только принимал решение относительно этой командировки, он не принял бы приглашения американского университета. Но сейчас… Он уже ничего не может изменить. Что о нём подумают и американские, и советские коллеги! Истерик? Полоумный?
…Месяца через три она прислала ему письмо. Снова просила прощения. Писала, что чувствует себя хорошо, готовится досрочно сдавать сессию, живёт на частной квартире. Иван Антонович подумал, что Василий Щербаков, видимо, взял на себя заботу о ней, раз она проявила такое упрямство. Во всяком случае, на те деньги, что отец ей оставил, она не могла позволить себе такую роскошь, как съёмное жильё. Слуцкий ответил на её письмо, рассказал, как устроился, о своих первых впечатлениях. На его письмо она не ответила. Он отправил ещё одно. Позвонить ей не мог — она не сообщила свой новый телефон.
Иван Антонович очень волновался. Анюта либо уже родила, либо это событие вот-вот должно было произойти. Когда он получил письмо от Щербакова, у него потемнело в глазах. Он сразу понял, что Анюты больше нет. Василий написал, что Аня родила девочку, которую он взял в свою семью. Сейчас оформляет документы на удочерение.
Слуцкий не испытывал тогда никаких чувств к малютке, которая забрала жизнь его дочери, и сразу решил, что не будет заявлять о своих правах на ребёнка. Ей будет лучше в семье отца…
О Господи! Ну зачем снова об этом? Зачем вытаскивать наружу такие далёкие и, казалось, прочно забытые painful experiences[1]!
Ну вот, совсем отвык от русского языка. Ничего. Теперь и наслушается, и наговорится. С головой окунется в русскую атмосферу. Полное, так сказать, погружение. Какое тебе погружение, старый дурень, когда скоро уж за гранитную плиту погружаться, пытался рассмешить себя Слуцкий, но от резкой боли в груди чуть не вскрикнул. Осторожно, чтобы не спровоцировать новую болевую атаку, достал из кармана пиджака пластиковую трубочку с лекарством и выдавил в рот одну пилюлю. Сердце стало беспокоить в последнее время.
Вот побудет в Москве немного — и назад. Домой. Там спокойно, удобно, привычно. Там работа, любимая лаборатория. Что ему ещё нужно? Как поселился в университетском кампусе тридцать лет тому назад, так и живёт там до сих пор. Дом на берегу океана купил, поддавшись американскому менталитету, но сам необходимости в новом жилье не ощущал. Хотя дом очень хорош! Просторный, светлый, с собственным пляжем.
Теперь вот внучка пусть приезжает и хозяйничает. Наверное, у неё семья — муж, детишки. Да, да! Скорее всего он прадед! Да и Щербаков этот, Василий Юрьевич… Как ни настраивал себя против него Иван Антонович, всё же отдавал ему должное в том, что ведёт себя этот человек достойно. Дочь свою внебрачную не только признал, но и в семью взял, а это непростое дело — сознаться перед женой в адюльтере. Вину свою как перед Анютой, так и перед самим Слуцким, видимо, чувствует. Недаром ни разу о денежной помощи не попросил. Даже наоборот — отказывался, когда Иван Антонович предлагал. Может, на старости лет, мечтал Слуцкий, появятся в его жизни люди, нуждающиеся в его заботе и поддержке.
Теперь ему хотелось скорее попасть в Москву, в дом на Краснопролетарской, в котором тридцать лет назад он побывал при таких странных обстоятельствах. Где, взгромоздившись на подоконник на лестничной клетке, говорил с неким Щербаковым Василием Юрьевичем о чести, любви и ответственности.
2
В гостинице Иван Антонович принял душ, накинул белоснежный махровый халат и блаженно растянулся на широкой, застеленной мягким покрывалом кровати. Пару-тройку часов можно поспать — тяжёлый перелет через океан все-таки утомил. Перед семьёй Щербаковых — именно так было подписано письмо, где ему назначалась сегодняшняя встреча, — хотелось появиться бодрым, отдохнувшим и свежим. Образ Деда Мороза, в котором ему придётся теперь выступать, очень радовал и тешил, но требовал соответствующего обличья. Измождённый Санта — такая же нелепица, как брызжущий гемоглобином Пьеро.
На вешалке в шкафу висел добротный, только что отутюженный тёмно-синий костюм, белая рубашка с хрустящими от крахмала воротником и манжетами, скреплёнными золотыми запонками, и синий в бордовую полоску галстук. Пристрастия Слуцкого в одежде были очень консервативны, но выбранным туалетом он остался доволен. За пару недель до отъезда прошёлся по магазинам, купил этот костюм, но что привело его в полный, почти детский восторг — чёрные кожаные штиблеты с блестящими резиновыми галошами на рифлёной подошве. Ностальгического алого подбоя из байки они не имели, но так грели душу, что он тогда даже не стал убирать их в гардеробную, а оставил на журнальном столике. Для любования…
Ровно в шесть часов вечера высокий пожилой господин в длинном тёмно-сером пальто появился под элегантным козырьком «Палас-Отеля». Шерстяной коричневый шарф, немодно уложенный на шее в жёсткий нахлёст, добротные замшевые перчатки и резиновые галоши, надетые на дорогие ботинки, придавали его облику что-то притягательное и непонятное. В том смысле, что непонятно, из каких таких запасников времени и пространства этот господин прибыл в Москву.
Тридцать лет Слуцкий не был в городе, где произошли почти все главные события его сознательной жизни, и сейчас разглядывал кусочек этого города с таким живейшим интересом, что глаза излучали горячую молодую энергию.
Первая Тверская-Ямская, которую Иван Антонович по-старому называл улицей Горького, уютно освещалась жёлтым, как на детской картинке, светом. Редкие снежинки ласково опускались на капот и крыши машин, намертво застрявших в безнадёжной пробке что в одну, что в другую сторону. На сердце вдруг стало легко и радостно. Москва словно узнала его после долгой разлуки и радовалась возвращению.

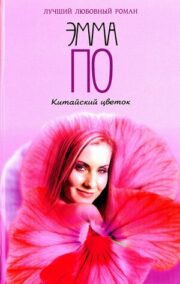
"Китайский цветок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Китайский цветок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Китайский цветок" друзьям в соцсетях.