— Ладно, старуха, заканчивай бодягу! — Он встал, чтобы налить себе водки, нагловато, как ей показалось, демонстрируя свою наготу. Со стаканом в руке сел около нее на диван и залпом выпил, выдохнув в ее сторону водочные пары. — Колоться-то когда будешь?
— В каком смысле? — Она перестала плакать.
— В смысле, комедию ломать! — Валерка расхохотался. — Ну очень смешно трахаешься, изображая из себя инвалидку!
Ей показалось, что вся кровь, какая только есть в ее теле, ударила в голову и вот-вот затопит мозги. Что она слышит? Что он говорит? Он блефует. Даже если он что-то подозревает… он не может знать наверняка… Ей надо просто взять себя в руки. Вдруг задергалась левая щека, и она прижала ее подушечками пальцев.
— Я тебя не понимаю. — Она хотела сказать это громко и дерзко, но из горла, сжатого спазмом, выползало что-то сдавленное и сиплое.
— Что-что? — то ли не понял, то ли притворился, что не понял, Валерка.
— Ты о чем? — прокашлялась наконец Даша.
— Значит так, дорогая… — Валерка рывком откинул одеяло, которым она была накрыта, и довольно сильно хлопнул ее ладонью по голой ляжке. — Даша, Зоя или как тебя там! Либо ты все расскажешь мне, и прямо сейчас, либо завтра, но не мне, а, как бы, в ментовке. — Он помолчал, потом судорожно всхлипнул, неловко утер кулаком глаза и вдруг что есть сил стал трясти ее за плечи. — Ты зачем Дашку убила? Сука! Ты зачем ее убила? Что она тебе сделала? Она была такой классной девчонкой! А ты… ты мизинца ее не стоишь! Гадина, гадина… — Он закрыл руками лицо и громко навзрыд заплакал.
Даша подтянула одеяло к самому подбородку и замерла, ожидая, что он будет делать дальше. Он настолько ошеломил ее и своим разоблачением, и слезами по Дашке, что она чувствовала себя совершенно раздавленной и словно лишенной собственной воли. Она готова была смириться с любым проявлением гнева с его стороны. Даже если бы он начал ее бить или крушить мебель, она не сказала бы ни слова. Но Валерка ничего подобного не сделал. Он поднялся с дивана, стал натягивать на себя одежду и коротко бросил в ее сторону:
— Вставай и иди на кухню.
— Деньги, значит. Ты все это сделала из-за денег, — подытожил Валерка ее рассказ. — И Катерина Ивановна в курсе?
Даша испуганно покачала головой.
— Нет-нет! Что ты! Мама ничего не знает. — Она помолчала, потом робко спросила: — А как ты понял, что я не Даша? Я что-то не так делала в постели? В смысле, не как она?
— Да мы с Дарьей не спали никогда! — усмехнулся Валерка. — Просто друзьями были. Хорошими. Я очень ее уважал.
От изумления она не могла произнести ни слова. Смотрела на него во все глаза, даже рот приоткрыла.
— Я все понял в тот день, когда ты пригласила меня Дашкин гонорар пропивать. Ты сказала тогда по телефону, что ногти мажешь в мою честь. Дашук любила разные новые лаки. У нее их целая коробка была. А я, когда приходил, всегда что-нибудь говорил ей про ее ногти — ей приятно было, если я замечал. Я и в тот раз заметил, но не столько ногти, сколько флакончики с лаками. Ты помнишь, куда ты их убрала?
Она отрицательно покачала головой.
— А вот туда поставила, чтобы стол освободить! — Валерка кивнул на полку над столом, на которой стояли коробки с бытовой техникой. — Даша не могла их туда поставить! Просто не дотянулась бы. — Он закурил и насмешливо на нее посмотрел — так, как смотрел все последние дни. — А в койку тебя потащил, чтобы поглядеть, как ты себя поведешь. Я же понял, что ты растерялась, поскольку не знала, какие у нас с Дашкой отношения были. Боялась попасть впросак и на всякий случай сделала вид, что трахаться со мной для тебя дело привычное. А получилось, что выдала себя окончательно… Говорить тогда не стал, а сегодня… Слезы твои крокодиловы, которым не верю ни капли…
У Валерки задрожали губы, и Даша дотронулась до его руки.
— Прости меня, Валер. Прости… Скажи… Что ты собираешься теперь делать?
— Боишься? — Он злобно ухмыльнулся и уставился на нее с нескрываемой издевкой. — Не знаю. Живи пока.
Она прожила два дня и снова позвонила Валерке. Ждать, когда он объявится сам, было просто невыносимо. Чувствовала, что готова принять любые его решения. Даже если решит, что ей необходимо явиться с повинной, она не будет сопротивляться. Только бы скорее! Только не неизвестность, которая не дает ей ни сна, ни отдыха, а лишь грызет и грызет изнутри. Она так устала быть самостоятельной, расчетливой и жестокой, что перспектива покориться чужой воле и полностью зависеть от нее, казалась желанным и сладким избавлением. На волне незнакомого ей раньше самоуничижения она чуть не призналась Валерке в краже денег из сейфа и убийстве Костика, но он предложил такое неожиданное решение, что до новых признаний дело не дошло.
— Называть тебя по-прежнему буду Дашей. Уж раз ты заняла ее место, пусть все в это верят, включая меня. Мне так будет легче. Когда приедет твой дед, представишь меня, как бы, своим женихом.
— Зачем? — еле слышно произнесла Даша.
Валерка откинулся в кресле, по-хозяйски и оценивающе оглядел комнату, включая сидящую напротив него девушку.
— Здесь деньжищами запахло. Зачем же от них отказываться! Я что, себе враг? — Он спустился в кресле совсем низко, почти лег, зацепил носком грязного ботинка подол ее широкой юбки из жатой ткани и медленно поднял вверх. Сначала обнажились голые коленки, потом бедра, потом стали видны белые кружевные трусики. Не убирая с лица презрительно-наглой ухмылки, он задрал широкий подол еще выше и лениво оглядел открывшийся вид. — И от этого всего какой смысл отказываться? Ты, дорогая моя, понимаешь, что полностью в моих руках? Либо со мной, либо с урками. Ничего, стерпится как-нибудь. Я ведь тоже, как ты понимаешь, любовью-то не горю. Но тебя ни за что не выпущу. Мне деньги нужны, и я их получу. — Он опустил наконец ногу, и Дашин подол вернулся в прежнее положение. — Ну что, невеста, поди страстью горишь! Расшнуруй мне ботинки, раздевайся и ложись на диван. Будешь доказывать свою любовь неземную…
Часть вторая
Слуцкий
1
Иван Антонович Слуцкий летел в Москву и очень волновался. С тех самых пор, как решился написать письмо Щербакову, чувство тревоги не покидало его, то разрастаясь до размеров грозовой тучи, то маленьким камушком пристраиваясь на самом сердце. Хотя за тридцать лет, что отделяли его от города, в который сейчас возвращался, он, казалось, разучился волноваться. Точнее, разучился думать о личном. Ведь ожидание результатов бесконечных физических экспериментов сопровождалось скорее азартом, чем волнением.
Работа завладела им полностью. Из лаборатории уходил только на ночь, и то потому, что не хотел прослыть сумасшедшим стариком. И так о нём болтали в университетском кампусе черт знает что! Иммигрант из России — было время, когда за глаза его называли «большевик», — жил один, без семьи; кроме физики, ничем не интересовался, дурацкие университетские сборища никогда не посещал. Терпеть не мог ни ученых дамочек на досуге, ни ироничных куриц — жён своих коллег. Его холостяцкая жизнь просто не давала им покоя, а советское прошлое обрастало кучей небылиц.
Желание наладить свой быт будоражило только первое время после приезда из Союза. Наверное, из-за того, что он никак не налаживался в Москве… Служебная квартира, казённая мебель, всё неуютное, разномастное. Не хватало самых необходимых вещей, на покупку которых уходила вся зарплата. А дочь — взрослая девушка, и ей надо было одеваться, развлекаться.
Господи! Какие печальные воспоминания о той поре! Он до сих пор не знает, что лучше — забыть вовсе или помнить до конца дней. Но что знает наверняка — всё в жизни взаимосвязано. Это так же точно, как то, что Исаак Ньютон открыл законы механики.
Вот течёт и течет твоя жизнь. Местами даже счастливая. Вдруг что-то страшно сбивается в её бодром ритме, комкается, спотыкается… Почему это с тобой? За что? — недоумеваешь ты.
Многие так и остаются в слепом, но спасительном неведении. Им даже не приходит в голову, что происходящее с ними — маленькое, но закономерное звено в очень длинной цепочке причинно-следственных связей, которые выстраивали судьбы их предков, выстраивают судьбу их собственную и будут выстраивать судьбы их потомков.
Он тоже понял это не сразу. Собственно, «не сразу» — мягко сказано. Лишь когда смерть унесла жену — молодую цветущую женщину, а через несколько лет умерла во время родов дочь, он осознал, что его настигла расплата, и неизвестно, что ещё заберет у него Господь, чтобы смог он искупить свою вину за ту девочку.
…Это было так давно, словно и не с ним. Университетская пора приносила много радости. Учился с удовольствием. Москва, богатая и великолепная, после нищего, разрушенного войной Воронежа, откуда он приехал, кружила голову. Казалось, что в этой эйфории он будет всегда. И с Ларисой познакомился именно на волне волшебно-беспечного и лихого настроения.
Иван Антонович потом часто задавался вопросом, почему же его интерес к темноглазой розовощекой девушке так быстро сошёл на нет. Ведь Лариса была весьма привлекательной — можно сказать, выделялась из толпы. Он увидел её на катке в Парке Горького. С трогательным упорством она училась держаться на коньках. Тоненькие «гаги» никак не желали резать лёд, а так и норовили разъехаться в разные стороны. Она падала, но, не давая себе передышки, снова вставала на ноги. Он сказал ей что-то ободряющее, прокатил в санках-кресле по большому кругу, потом пригласил на новогодний вечер в университет. Тогда молодые люди как-то проще знакомились на улице, в транспорте, в общественных местах. Знакомясь с Ларисой, он, честно говоря, не рассчитывал на такой успех. Однако вскоре понял, что девушка как-то уж слишком серьёзно воспринимает его знаки внимания. Ему бы насторожиться и отойти от неё — уже тогда было понятно, что для беспроблемного, лёгкого романа она не создана. Особых усилий над собой делать бы не пришлось. Влюблен не был. Спортивный азарт резвился в нём больше, чем страсть. А к тому времени, когда дело дошло до постели, в нём и азарта-то почти не осталось! То ли не было в ней того, что сейчас называют сексапильностью, то ли ему как-то слишком легко давалась победа любовная, но скука разбирала смертельная. Однако момент, когда расстаться с Ларисой можно было легко, не превращая разрыв в событие вселенского масштаба, оказался упущен. Лариса влюбилась в него без памяти, а Ваня Слуцкий стал находить удовольствие в новом для себя образе кумира-повелителя.

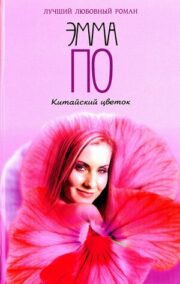
"Китайский цветок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Китайский цветок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Китайский цветок" друзьям в соцсетях.