Финетт заскулила. На частотах, недоступных человеческому слуху, она часто слышала шаги мертвецов, чуяла тянущийся за ними шлейф паутины и могильную пыль. Какое-то мгновение ее застывший хозяин напоминал одну из мумий в капуцинской церкви в Палермо. Потом он опять ожил, вздрогнул и направился к камину. Но когда в комнате появилась безмолвная гостья, старик по-прежнему стоял в нерешительности, сжав письма в руке.
— Синьор Казанова?
В ее голосе было что-то мягкое и манящее, как будто палец легким движением прикоснулся к волосам у него на затылке. Он медленно обернулся.
глава 1
Представьте себе его в ту пору: тридцать восемь лет от роду, волевой подбородок, крупный нос, большие карие глаза на лице «африканской смуглости», мускулистые грудь и плечи гвардейца. Таким он сошел с трапа корабля в гавани Дувра вслед за герцогом Бедфордом, с которым после джентльменского спора поделил расходы в путешествии от Кале — каждый заплатил капитану брига по три гинеи. Слуги вынесли их багаж и поставили его на набережной.
— Инг-лия! Инг-лия!
— Да, это действительно Англия, мсье, — откликнулся герцог на безупречном французском языке. Впрочем, иного от британского посланника в Фонтенбло и не следовало ожидать. — И пусть ваше пребывание здесь окажется интересным.
Они постояли минуту, ощутив себя на твердой земле, разминая ноги и вдыхая свежий ветер, пропахший солью, смолой и рыбьими потрохами. Полуголый мальчик, держа за шкирку свою дворнягу, уставился на их строгие камзолы, туго натянутые перчатки и сверкавшие на солнце рукоятки шпаг, словно они, подобно героям деревенской пантомимы, спустились с облака на скрипучих веревках. Казанова огляделся по сторонам — вызывающее богатство и вызывающая бедность. Конечно, такие мальчишки встречаются повсюду и время оставляет человеческий хлам в каждом уголке мира, однако он не мог остаться равнодушным и всякий раз видел в них себя — полубезумного сына танцовщицы Дзанетты, бегущего вдоль по calli[6], изумленно глазеющего на сенаторов в алых плащах, на раззолоченных иностранцев, на дам, идущих нетвердой походкой под тяжестью своих драгоценностей. Казанова достал из кармана серебряную монетку и, покачав ее на ногте большого пальца, бросил мальчишке. Она покатилась по камням мостовой в лужу от вчерашнего дождя. Мальчик, по-прежнему смотревший на приезжих, нагнулся и ощупью отыскал монетку. Казанова отвернулся — он дал себе зарок не думать о неприятном как можно дольше.
На таможне он назвался Сейнгальтом, шевалье де Сейнгальтом, гражданином Франции, и, конечно, солгал, не удержавшись от излюбленной привычки выдумывать себе разные имена. Это также была и политика. Он исколесил Европу вдоль и поперек и понял, что если брать в расчет основные части континента, тот отнюдь не велик. В путешествиях он познакомился с доброй половиной влиятельных и знатных особ из всех европейских стран, а фамилия «Казанова» фигурировала в десятках документов, упоминалась в секретных депешах и стала известна многим, пожалуй, слишком многим людям, так что ему не хотелось ею пользоваться. В каком-то смысле, хотя, разумеется, с изрядной натяжкой, он и правда считал себя гражданином Франции. Разве он сейчас не состоит на службе у министра Людовика XV, который пригласил его на ужин, угостил омарами в масле, дикими голубями с пюре из артишоков и во время этой изысканной трапезы поручил разузнать как можно больше о британском королевстве. Нам пригодятся любые ценные сведения, пояснил министр, — о флоте, скандалах, о недовольных тори. К тому же Казанову навсегда изгнали из Венецианского государства, и список его прегрешений был велик. Он развратил молодежь республики, предпочел драматурга Дзордзи аббату Шариа в год, когда группировку Шариа возглавлял Красный Инквизитор. Он каббалист и франкмасон, он довел до сумасшествия графиню Лоренцу Маддалену Бонафиде и так далее, однако при всех преувеличениях у грозного перечня имелась кое-какая реальная основа. В те дни каждый изобретал себя заново, это почиталось едва ли не за должное.
Он обмакнул перо в чернильницу и расписался — «Сейнгальт» в регистрационной книге для иностранцев. Чиновник засыпал подпись песком, откинулся на стуле и холодно улыбнулся.
— Это простая формальность, мсье, — заметил он. — Вы можете свободно проходить.
Карета герцога стояла рядом с таможней. Казанова был готов погрузить свой объемистый багаж в любую подходящую повозку и охотно принял предложение герцога отправиться в Лондон вместе с ним. Он почувствовал, как потеплело на улице. Они сняли плащи и открыли верхние окна кареты всего на дюйм-другой, а иначе задохнулись бы от налетевшей пыли. Его сиятельство, безукоризненно воспитанный человек, которого Казанова без удивления встретил бы в Аллее Вздохов Пале-Рояля или другом столь же известном уголке столь известного места, начал излагать историю графства Кент с древних времен до наших дней. Казанова кивал головой и что-то любезно восклицал, но расслышал лишь несколько слов. Он разглядывал зеленые межи английских полей, густые английские леса, чарующе бледную, с примесью мела, голубизну английских небес и размышлял, можно ли зажить новой жизнью в этой плодородной и приветливой стране, забыть о мучительных бдениях до рассвета, когда какой-то дьявольский пес, казалось, вцеплялся ему в грудь и жарко дышал в лицо. Бессонница, усталость, подавленность не покидали его после Мюнхена, будто кашель, от которого никак не избавишься.
Мюнхен! Именно там были биты все его карты, а эта маленькая танцовщица Ларено украла его одежду и драгоценности да еще заразила позорной болезнью. Исключительная боль. Он орал от приступа лихорадки, как сумасшедший во время грозы. И то, что начала болезнь, чуть не довершили врачи с их латынью, пьянством и грязными ножами. В конечном счете он спас себя сам — строгой диетой из молока, воды и ячменного супа. Но провалялся пластом два с половиной месяца. Галлюцинации, гниющие зубы. Пугающие видения.
Постепенно его вялые, опавшие было мускулы снова окрепли. Он смог щелкать пальцами орехи и, на первый взгляд, не слишком изменился после тяжелого потрясения. Но как определить истинную цену подобной борьбы за жизнь, подумал Казанова. Какой процент глубинных резервов организма и мужской силы он утратил? Иногда он чувствовал, что мир закрылся перед ним, а горизонт преградил путь, словно турникет. Для того чтобы заново обрести себя, ему нужно было полное спокойствие. Да, покой, тишина и безмятежность. «Я в расцвете сил, это зенит моей жизни», — твердил он себе в третий или четвертый раз за день. Однако само напоминание об этом и то, как часто он повторял его, казалось странным и не могло не тревожить.
Они прибыли в лондонский Вест-Энд в сумерках и расстались, засвидетельствовав взаимное почтение. Когда карета герцога плавно отъехала и скрылась в вечерней дали, Казанова ощутил восхитительную слабость — неизменную спутницу приезда с туго набитым кошельком в незнакомый город. Как будто его мягко давило и распирало изнутри некое таинственное изобилие. Он называл себя знатоком городов и видел их столько, что мог, по собственному утверждению, узнать о них все — по походке горожан, состоянию их животных, количеству и поведению нищих, ароматам и миазмам, из которых и состоял неповторимый воздух того или иного места. Вроде вкуса вина или особого аромата нижних юбок. Лондон, профильтрованный его отличным обонянием, пропах сырым песком, грязью, розами и пивным солодом. Или угольным дымом, пекарнями и пылью.
На Сохо-сквер он довольно долго простоял под окнами венецианской резиденции, надеясь, что ее глава, Дзуккато, поглядит из окна на беспрестанно снующие экипажи и заметит его, живого и невредимого, добравшегося до Лондона и равнодушного к суровой цензуре далекой и давно покинутой им республики.
Он вздохнул, ссутулился и двинулся через усаженный деревьями центр площади к дому напротив. Казанову пригласила к себе старая приятельница, мадам Корнелюс — одна из тех, с кем он, в прошлом и под иными небесами, провел часы, полные страсти. Она была известна также как де Тренти и Рижербоос, вдова танцора Помпеати, того самого Помпеати, который покончил с собой в Венеции, вспоров живот бритвой.
Она приняла Казанову в гостиной на первом этаже. Лампы еще не были зажжены, и он не мог сказать, пока не приблизился и не склонился к ее руке с почтительным поцелуем, милосердно ли обошлись с ней прошедшие годы. На ней было платье с нижней юбкой — темно- и светло-синих тонов, — а лицо чуть накрашено и напудрено. Он обратил внимание, что она по-прежнему тонка и стройна, как мальчик, но мальчик с телом, закалившимся в огне тяжелой жизни.
Они осыпали друг друга комплиментами. Каждый из них отметил, что другой — другая — совсем не изменились. Время просто обошло их стороной! Как молодо она выглядит. Каким благополучным и процветающим кажется он. Они засмеялись. И она сказала, что сумрак ей льстит. Казанова отражался в ее взгляде, как в зеркале, и скрытность не имела между ними ни малейшего смысла. Все, о чем бы они ни умолчали — а молчать приходилось о многом, — не могло быть важной тайной.
Казанова и хозяйка прошли по дому, взявшись за руки, и остановились у высокого окна с видом на площадь. Отдав должное этикету, они заговорили о старых знакомых, о Марчелло и Итало, о Фредерике, Франсуа-Мари и Федоре Михайловиче. Мрачный список имен и быстро всплывшие в памяти лица — слишком многие из них уже стали жертвами катастроф, хватаясь за горло, за сердце, истекая кровью в парке на рассвете, затеяв чистить пистолет с засунутым в рот дулом. На мгновение под маской меланхолии пробудилась их старая привязанность. Вечер как будто подействовал на них, соблазнив скорым наступлением ночи. Они замолчали. Две или три минуты, пока они наблюдали за меркнущим над лондонскими крышами светом, за шалью золотистого заката над шпилями церквей и трубами и за полетом мелких птиц, Казанова раздумывал, уж не обнять ли ее или, может быть, отнести на lit de jour[7] и хоть на краткий миг получить удовольствие от любовной связи. Затем пробили часы и в комнату вошли слуги со свечами. Двое у окна отстранились друг от друга.

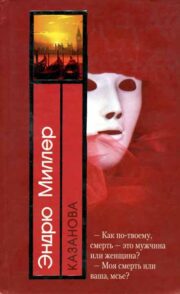
"Казанова" отзывы
Отзывы читателей о книге "Казанова". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Казанова" друзьям в соцсетях.