Не было такой опасности, которая не представлялась бы в самом преувеличенном виде моему воображению. То я опасался, не открыли ли преследователи Стеллы ее убежища, и при одной этой мысли ненависть к ним вспыхивала во мне с прежней силой; то я с дрожью спрашивал себя, не стала ли она жертвой дикого зверя или разбойника; и тех и других было не так уж много кругом, но вдруг Стелла повстречается с кем-нибудь из них?!
Я брел наугад, охваченный множеством различных опасений, как вдруг заметил слабый свет, проникавший сквозь листву; я подошел поближе и услышал легкий шорох. Мне приходилось не раз слышать такой шорох, но никогда еще он не отзывался в моем сердце с такой силой: то был шелест платья Стеллы.
К стволу тиса подвешена была лампада; она бросала на Стеллу свой слабый свет, озарявший ее бледным сиянием; струясь трепетными бликами вдоль ее платья, он исчезал в траве.
Стелла стояла на коленях, сложив руки и припав головой к земле; она словно застыла в своей смиренной молитвенной позе и лишь изредка посылала небу взгляд, вздох или слезу.
Бригитта стояла подле нее, устремив глаза на эбеновые четки; луч света падал на ее седые волосы.
Стелла услышала, как я подошел; обернувшись, она сделала мне знак рукой, чтобы я молчал; я опустился на колени.
Мне давно не приходилось молиться, и я почувствовал, что мне стало как-то легче от этого вдохновенного общения с богом, которым были проникнуты все мои чувства: оно возвышало душу, очищало помыслы и словно лило целительный бальзам на мои тайные раны.
Я вовсе не сторонник того исключительного и превратно понятого благочестия, которое повелевает отвернуться от человека, введенного в обман, и осудить заблудшего как преступника. Я чувствую, что мог бы взглянуть на неверующего без содрогания, но я не мог бы взглянуть на него без жалости; да его и стоит пожалеть: он не знает радости молитвы!
— Бог услышал нас, — сказал я Стелле, когда вечерняя молитва окончилась. — Эта хвала, вознесенная ему в несчастье и в ночи и потому вдвойне священная, дошла до него, ибо она исходила от двух гонимых, исповедующих гонимую веру; господь услышал нас и ниспослал нам свое благословение…
Стелла указала мне на могилу, поросшую мхом.
— Она тоже, — произнесла Стелла, — она тоже слышит нас и шлет нам свое благословение.
Светильник вспыхнул ярче и погас.
По дороге к хижине мы не сказали ни слова. Когда мы пришли, Стелла опустилась на скамью и пристально взглянула на меня; ее лицо еще хранило печать божественной благодати, к которой она только что приобщилась; я опустил глаза и с благоговением внимал ей.
— Друг мой, — сказала Стелла, — я не всегда жила в этих горах одиноко: со мной была моя мать.
На глазах ее заблистали слезы; она обратила взор свой к небу.
— Мать последовала за мной в это мрачное изгнание, — продолжала Стелла, — и мы заменяли друг другу весь мир. Она умерла. Вот уже год, как выкопали мы эту могилу, и я осталась одна.
— Одна! — страстно воскликнул я. — А Бригитта?.. — добавил я, краснея.
— Да, дружба! — ответила Стелла. — Дружба отрадна; но кто вернет мне ласки матери? Она умерла.
Стелла, не сомневайся! Она жива… она видит тебя; по ночам она по-прежнему склоняется над своей Стеллой, над этой хижиной; она собирает слезы, пролитые нежной дочерью, и с горделивым умилением взирает на ту, что скорбит о ней. Когда время подточит твои жизненные силы, о Стелла! — душа ее слетит к твоему смертному ложу, соединится с твоей душой и вместе с ней вознесется к престолу всевышнего. Не сомневайся, Стелла, ты снова увидишь мать!
И во всех помыслах своих я твердо пребываю в великой надежде на лучшую жизнь. Можешь говорить, что хочешь, суровый материалист, ты не отнимешь у меня бессмертия; моя уверенность сильнее твоих софизмов! Я буду жить!
Какой смертный был бы способен выносить презрение сильных мира сего, унижение нищеты и муки оскорбленной любви, если б он не имел прибежища в душе своей, не знающей небытия? Каким бы взглядом провожал он гроб своего друга, если бы думал, что покойный уходит в могилу навсегда? Что оставалось бы ему, подавленному зрелищем торжествующего преступления, удрученному преследованиями, утратившему все прежние свои иллюзии, если бы не эта глубокая потребность жить за пределами земного существования и приобщиться к вечности? Если бы не это чувство, которое поддерживает, возвеличивает его и примиряет с прошлым, открывая путь в грядущее?
Отчего Стелла не поведала раньше этой тайны моему сердцу?
— У вас жива еще мать, — промолвила Стелла, — а людям несчастным не следует докучать счастливым.
Счастливым!.. — так Стелла не из их числа?
Глава тринадцатая
Зеленый пригорок
Несколько дней спустя Стелла и я возвращались с маленького поля Бригитты и остановились на пригорке, окруженном кустами зелени; отсюда открывался далекий вид на прекрасную долину.
Солнце садилось, и за его огненной колесницей уже тянулся на западе широкий пурпурный след; последние лучи, достигавшие горных вершин, окрашивали их в яркие тона и отражались в долине, сообщая всем окружающим предметам мягкий темно-розовый оттенок.
Я с нежностью смотрел на Стеллу; душа ее, казалось, вторила бесчисленным голосам природы, встречавшей закат гимном любви; трудно было сказать, придавал ли ей этот чарующий пейзаж какую-то новую прелесть или, напротив, все кругом становилось еще прекраснее от ее присутствия.
Я обнял ее; она склонила голову ко мне на грудь и в сладостной истоме закрыла глаза; щеки ее зарделись ярким румянцем; сердце ее билось… Я весь горел как в лихорадке; казалось, какая-то жгучая жажда иссушила мне губы — я припал к ее губам, и голова моя закружилась, я весь задрожал, в глазах потемнело…
Мы спустились с пригорка, и Стелла ни разу не взглянула на меня, не промолвила ни слова; меня охватило такое волнение, что я не заметил, как мы сошли с тропинки, ведущей к хижине, и подошли к роще, где Стелла обычно молилась. Солнце зашло; на тисе висела лампада. Мы упали на колени.
Когда мы на следующий день проходили мимо зеленого пригорка, Стелла улыбнулась мне и свернула на соседнюю тропу.
Глава четырнадцатая
Венок
Я шел рядом с ней; заметив вдали скалу, поросшую аквилегиями, я нарвал этих цветов и принес их Стелле; она сплела из них венок и надела его на свои белокурые волосы, распустив их по плечам, как это делают осужденные на смерть. Этот траурный убор напомнил ей о погибших друзьях, и она разбросала цветы по тропинке, как бы в знак искупительной жертвы, принесенной праху невинно убиенных.
— Да, Стелла! — воскликнул я. — Эти люди повергли в ужас нашу родину своими дерзкими злодеяниями; они опустошили храмы, они уничтожили наш покой, они изгнали добродетель; они убили дочь в объятиях отца, мужа на груди любящей жены; они — превратили родную землю в вотчину палачей и удобрили ее трупами наших отцов!.. Они изгнали тебя, о Стелла! Нет, никогда не смогу я запечатлеть на их окровавленных губах поцелуй прощения и мира! Никогда! Месть и проклятье тиранам!
Там, где правосудие — пустое слово, правом становится месть; и если закон в трусливом молчании взирает на наглую безнаказанность преступления, пусть кинжал заменит угнетенному судью и друга!
Да, я произнес эти слова, ибо бывают минуты, когда я желал бы иметь в руках своих карающий меч, чтобы сокрушить все, что сковало мою свободу и поставило преграду моим чувствам; но это лишь заблуждение, противное законам природы и унижающее достоинство человека.
— Да снизойдет на них милость Божия, — промолвила Стелла. И я повторил это вслед за ней.
Великое милосердие светилось в ее взгляде: она походила в это мгновение на ангела-хранителя, призывающего на людей прощение всевышнего, словно знаменуя собою то невидимое звено, что соединяет небеса и землю, творца и его создание.
Я стал на колени в знак моего преклонения пред ней; но глаза ее, затуманенные любовью, встретились с моими, и я позабыл слова молитвы, которые готовился уже произнести.
Стелла вновь стала для меня земною.
Глава пятнадцатая
Моя вина
Небо предвещало грозу.
Знойный ветер взметал песчаные вихри, крутя их в вышине, и гнул к земле верхушки дерев, с тяжким стоном уступавших его напору; густые облака застилали солнце; мрачные тучи обволакивали горизонт, и дикие голуби то и дело тревожно перекликались в лесу.
Мне думается, что если бы в жизни не было любви, то этот разгул стихий заставил бы почувствовать нас ее необходимость.
Войдя в хижину, я сел подле Стеллы, а Стелла еще ближе придвинулась ко мне. Я испытывал блаженство, но мне словно хотелось чего-то большего. В груди моей, как и в природе, бушевала буря.
Я ловил каждый ее взгляд, от меня не ускользало ни малейшее ее движение. И если бы в глазах ее я прочел мысль, которая предназначалась не мне, я почувствовал бы ревность.
Молния сверкнула над самой хижиной. Это мгновение, казалось, сблизило нас еще больше. Я заключил Стеллу в свои объятия; она невольно прильнула ко мне.
Ударил гром! Он мог бы поразить меня в эту минуту восторга, и все счастливцы на земле позавидовали бы моей смерти.
Какое-то смутное сладостное желание вдруг разлилось во всем теле, кровь прихлынула к сердцу.
Я поднял Стеллу, крепко прижал ее к себе, и мои пылающие губы встретились с ее губами….
В первое мгновение Стелла вся затрепетала… потом она словно лишилась чувств; казалось, душа ее безраздельно слилась с моею в этом упоительном поцелуе.
Не знаю, что я чувствовал тогда… То был какой-то неясный, но чудный сон, в котором потонуло все — даже ощущение собственной жизни.

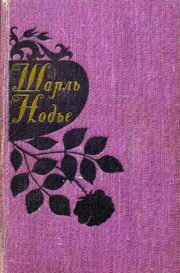
"Изгнанники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Изгнанники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Изгнанники" друзьям в соцсетях.