Габриэла покачала головой.
— Нет, насколько я знаю. Я даже не уверена, по-прежнему ли она живет в Сан-Франциско или перебралась куда-нибудь в другое место.
— Вот и хорошо. — с чувством сказал профессор. — И ты тоже не должна разыскивать свою мать. Никогда. Она причинила тебе столько страданий, что хватило бы на несколько жизней. Возможно, твоя мать была просто больна, но твоего отца я совершенно не понимаю. Как он мог допустить все это? Почему он не вмешался? Почему, наконец, не забрал тебя к себе?
И профессор недоуменно покачал головой. Он действительно не понимал. Дикие звери вели себя по отношению к своим детенышам лучше, чем мать и отец Габриэлы.
А Габриэла и сама не знала ответов на эти вопросы. Они до сих пор ставили ее в тупик, хотя порой ей казалось, что она начинает кое-что понимать. Но все было так неясно, так смутно и вместе с тем — так просто и безобразно, что она не отваживалась назвать вещи своими именами даже наедине с собой. Тем временем они подошли к пансиону, и профессор, продолжая придерживать Габриэлу за локоть, галантно отворил перед ней входную дверь.
Первой, кого они встретили в вестибюле, была миссис Розенштейн. Увидев входящих в пансион Габриэлу и профессора, она озабоченно нахмурилась. Габи еще никогда не приходила с работы так рано. Миссис Розенштейн решила, что профессору стало плохо в кафе. Вероятно, девушка решила проводить его домой.
— Все в порядке? — спросила миссис Розенштейн, в тревоге переводя взгляд с профессора на Габриэлу и обратно.
— Все в порядке, миссис Розенштейн, не тревожьтесь, — поспешила успокоить ее Габриэла. — Просто меня уволили. С треском.
Она больше не дрожала, но в ее голосе звучало такое странное спокойствие, что профессор, выпустив ее локоть, поспешил подняться к себе в квартиру, где у него «на всякий пожарный случай» хранилась бутылочка бренди.
— За что?! — ахнула миссис Розенштейн, поднося к щекам сразу обе руки. — Чем вы могли не угодить хозяину, Габи?! Эта немецкая сосиска никогда мне не нравилась, — честно добавила она, — но я надеялась, что к вам, американке, он будет относиться без предубеждения!
Она была так возмущена и взволнована, что даже отказалась от рюмки бренди, предложенной вернувшимся профессором. Впрочем, профессор с удовольствием выпил сам.
— Дело не в предубеждении, — улыбнулась Габриэла. Она тоже выпила рюмку бренди и неожиданно почувствовала себя сильной и свободной, хотя крепкий напиток обжег ей язык. Достигнув желудка, он взорвался там словно небольшая атомная бомба, и Габриэла почувствовала, как по ее жилам ползет медленное, приятное тепло.
— Герр Баум никогда бы меня не уволил, если бы я не пообещала публично отшлепать одну из покупательниц, — сказала она и снова улыбнулась. Все происшедшее неожиданно показалось ей чрезвычайно смешным, хотя и она, и профессор отлично знали, что на самом деле проблема была очень серьезной.
— Боже мой! — воскликнула миссис Розенштейн. — Габи, девочка, я никогда не поверю, что вы нахамили клиентке! Несомненно, это она первая вас оскорбила. А может… — Тут она прищурилась и нацелила на Габриэлу длинный тонкий палец с наманикюренным ногтем. — Может быть, это была не клиентка, а клиент, который позволил себе, гм-м… распускать руки?
— Я вам все объясню, миссис Розенштейн, — вмешался профессор, который не спеша опрокинул еще рюмочку. — Только не сейчас, а несколько позднее, хорошо?
Но не успела миссис Розенштейн ответить, как на шум в вестибюль выглянула мадам Босличкова.
— Что случилось? — осведомилась она. — У вас что, вечеринка? А почему меня не пригласили?
— Да, мадам Босличкова, мы празднуем! — ответила Габриэла и рассмеялась, чувствуя себя беспричинно веселой. Несомненно, тут сыграло свою роль и бренди профессора, но главным было Другое. Сегодняшний вечер дался ей нелегко, но теперь, когда все было позади, Габриэла чувствовала, что стала еще чуточку сильнее.
— Что это такое вы празднуете в моем пансионе? — с улыбкой поинтересовалась хозяйка. — По-моему, до Рождества еще несколько дней.
— Я только что потеряла работу, — ответила Габриэла и хихикнула.
— Она пьяна? Это вы ее напоили? — Мадам Босличкова с укором взглянула на профессора.
— Поверьте, мадам Босличкова, Габриэла вполне заслужила эту капельку бренди, — любезно ответил профессор и вдруг хлопнул себя по лбу, припомнив, что у них есть еще одна причина для веселья. Собственно говоря, и в кафе-то он отправился для того, чтобы сообщить Габриэле приятную новость, но сцена, невольным свидетелем которой он стал, заставила его напрочь обо всем позабыть. Теперь же профессор вытащил из внутреннего кармана пиджака длинный голубой конверт и, многозначительно глядя на Габриэлу, с учтивым поклоном протянул его девушке. Ему было несколько неловко от того, что он мог забыть о такой важной вещи, но его до некоторой степени извиняло то, что письмо пришло слишком скоро. Профессор ждал его по крайней мере через месяц.
— Прочти это, Габи, — сказал он и подмигнул. — Если, конечно, ты не настолько пьяна, чтобы не различать английские буквы.
Чтобы подыграть ему, Габриэла с преувеличенной осторожностью сильно пьяного человека вскрыла конверт и развернула письмо. На самом деле бренди почти на нее не подействовало, хотя она пила его впервые в жизни. Она чувствовала только приятное тепло, но и только. И вдруг буквы и в самом деле запрыгали у нее перед глазами.
— О боже! — вырвалось у нее. — Как вы это сделали, профессор?!
Она повернулась к нему и вдруг заскакала на месте как девочка, получившая неожиданный, но долгожданный подарок.
— Что это? — немедленно спросила мадам Босличкова, сдвигая очки на кончик носа. — Наша Габриэла выиграла по билету Ирландского скакового кубка[5]?
— Лучше, гораздо лучше!.. — воскликнула Габриэла, поочередно обнимая хозяйку, миссис Розенштейн и профессора. — Милый, милый мистер Томас! Я просто не знаю, как я вам благодарна! — проговорила она, задыхаясь от счастья и волнения.
Старый профессор сиял как новенький десятицентовик. Дело было в том, что он, тайком от Габриэлы, послал ее последний рассказ в «Нью-йоркер», и редакция согласилась напечатать его в мартовском номере журнала. (Содержание письма, не вскрывая конверта, он узнал очень просто. Позвонив в редакцию и представившись литературным агентом мисс Харрисон, профессор спросил, нет ли какой ошибки в полученном на ее имя письме, на что раздраженный женский голос ответил, что никакой ошибки нет и что чек на сумму одна тысяча долларов будет выслан ей по почте в ближайшее время.) Конечно, профессор поступил с рассказом несколько вольно, однако он знал, что сама Габриэла никогда бы на это не решилась. Зато теперь она стала самой настоящей писательницей, и все это — благодаря ему.
— Как я могу отблагодарить вас, дорогой мой мистер Томас? — спросила Габриэла, все еще прижимая письмо к груди. Ответ из журнала подтверждал все, что говорили ей и профессор, и матушка Григория. Они были правы — у Габриэлы действительно был талант. Она и в самом деле могла! Теперь это стало очевидно и самой Габриэле.
— Отблагодарить?.. — Профессор сделал строгое лицо. — Единственная благодарность, которую я приму от тебя, Габи, это новые рассказы. Я могу даже стать твоим литературным агентом, если, конечно, ты не пожелаешь обратиться к профессионалу.
Разумеется, это была шутка: профессор понимал, что Габриэле пока не нужен никакой агент. Но вместе с тем он знал, что когда-нибудь — и, возможно, очень скоро — настанет такое время, когда литературные агентства будут драться за право представлять новую звезду. У Габриэлы было все необходимое, чтобы стать знаменитой писательницей, — профессору это стало ясно, как только он прочел первые несколько страниц ее прозы.
— Вы можете быть моим агентом, редактором, директором — кем угодно! — воскликнула Габриэла, не в силах совладать со своим восторгом. — Боже, боже мой! Я еще никогда не получала такого замечательного рождественского подарка!
Она уже забыла о том, что потеряла работу и что впереди ее снова ждали неизвестность и долгое обивание порогов. Габриэла чувствовала себя настоящей писательницей. Не все ли теперь равно, станет ли она пока мыть полы или перебирать грязные тарелки.
В этот день они с профессором допоздна засиделись в гостиной. Остальные обитатели пансиона, поздравив Габриэлу с успехом, уже давно разошлись по комнатам, а они все говорили и говорили, обсуждая происшествие в кафе и то, что оно значило для Габриэлы. Потом от прошлого они перешли к будущему. Профессор убеждал ее, что если она изберет карьеру профессионального писателя, то сможет добиться на этом поприще больших успехов. Габриэла призналась, что хотела бы работать в этом направлении, хотя ее прельщал не столько успех, сколько возможность свободно творить и приносить людям радость своими рассказами. И, самое главное, Габриэла поверила в то, что у нее все получится. И залогом этого было письмо из «Нью-йоркера», которое она ни на минуту не выпускала из рук.
Когда они наконец расстались и Габриэла поднялась в свою комнату, она все еще размышляла о своем неожиданном успехе. Потом ей вспомнился Джо. Как бы он сейчас гордился ею. Если бы все повернулось иначе, они, возможно, уже были бы женаты и жили в какой-нибудь крошечной квартирке — голодные, но счастливые, как дети. Сейчас они готовились бы встретить свое первое Рождество, и она была бы на пятом месяце беременности. Но жизнь, увы, распорядилась иначе. Или, вернее, не жизнь, а Джо, который отказался бороться за их трудное счастье.
И внезапно Габриэла поняла, в чем заключается основная разница между ними. Джо не был бойцом. Габриэла всерьез сомневалась в том, что, окажись он в числе участников сегодняшней сцены в кафе, он попытался бы защитить маленькую девочку от ее матери. Разумеется, Джо был мягким, добрым, глубоко порядочным человеком, но жизнь во всех ее жестоких проявлениях слишком пугала его. Именно поэтому в решающий момент ему не хватило мужества и отваги, чтобы преодолеть свой страх и стать свободным. И, наверное, еще ему не хватило любви, любви к ней.

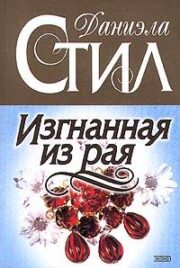
"Изгнанная из рая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Изгнанная из рая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Изгнанная из рая" друзьям в соцсетях.