Они отдались друг другу без изнурительной внутренней борьбы, без испуга и долгих страданий; воля души и плоти была спаяна воедино. Они без раздумий поддались страсти и были вознаграждены невыразимым наслаждением тела, восторгом сердца, глубоким спокойствием души.
Сияющий, невесомый воздух мягко касался их тел, когда Катарина и Рамон неподвижно лежали рядом в момент короткой передышки. Сутана Рамона валялась на полу рядом с платьем Катарины; сейчас они были просто мужчиной и женщиной, такими, какими их создала природа.
– Я мало что понимаю в искусстве любви, – прошептал Рамон.
– Если ты думаешь, что я стану тебя с кем-то сравнивать, то ошибаешься, потому что я люблю только тебя.
Он тихо засмеялся.
– Я всегда стремился к совершенству. А сейчас чувствую себя несовершенным, зато жутко счастливым.
Потом наружу вновь хлынул неуправляемый бешеный поток давно сдерживаемых желаний. Они жарко ласкали друг друга, почти до обморока, до блаженного бессилия и уснули только под утро.
Катарина проснулась в тот час, когда красное солнце выплывало из-за гряды холмов и его лучи заливали землю золотистым светом. Исабель еще спала, и у них с Рамоном было несколько минут для того, чтобы поговорить наедине.
– Стоит ли нам ехать к моей матери? – нерешительно произнес Рамон. – Она очень странная, никогда не знаешь, что она скажет или сделает.
– Мы должны, – промолвила Катарина. – Тебе нужно с ней повидаться.
Он снова обнял Катарину. Ее тело было податливым и мягким.
– Останемся здесь еще на одну ночь, – предложил Рамон, с трудом отрываясь от ее губ, – мне мало того, что было…
Она улыбнулась.
– Тебе хватит второй ночи?
– Нет. – Он покачал головой. – Мне не хватит и вечности.
Они остались в городке на неделю. Днем гуляли по улицам вместе с Исабель, беседовали, покупали и ели фрукты, а ночью обретали рай в маленькой комнате, в залитой лунным светом постели – священник и женщина. Он был ее любовником и единственной любовью. Она была его судьбой и смыслом жизни.
Наконец они тронулись в путь. Они ехали под сводами зелени, в гуще которой заливались певчие птицы, вдоль искрящегося моря, мимо гряды утесов. Катарина с изумлением взирала на то, как высокие, голые, изрезанные ветрами и выжженные солнцем скалы сменяются плоской бесплодной равниной, где не встретишь ни души, а та, в свою очередь, уступает место цветущим холмам.
Они прибыли в Мадрид, величественный, благородный, роскошный город, по сравнению с которым Амстердам выглядел маленьким и бедным. Катарина ловила на себе взгляды мужчин в украшенных перьями шляпах и темных плащах. Ее поразили туалеты испанок, сшитые из тяжелых тканей, и их сандалии на толстой подошве с каблуком из пробки, которые надевались на кожаную обувь. Платья были или яркими, пышными, с широкими прорезями в рукавах и очень открытыми или, наоборот, – наглухо застегнутыми и черными. На головах многих женщин были заколки и особым образом задрапированные платки, прикрывавшие затылок. Дамы кутались в прозрачные, словно дым, накидки из тюля, и каждая обмахивалась белым, черным или разноцветным веером. Мелькали набеленные или нарумяненные лица с накрашенными или покрытыми воском губами; всюду витал запах амбры и розовой воды.
Рамон попросил Катарину подождать, а сам вошел в дом сеньоры Хинесы.
Мать по обыкновению сидела за громоздким столом с почерневшей от времени крышкой и что-то писала в массивной книге с кожаным переплетом.
Заслышав шаги, она подняла голову и уставилась на Рамона. Ее тонкие губы были скорбно поджаты, лицо казалось застывшим. Рамон подошел ближе и заметил, что в волосах сеньоры Хинесы полно седины.
– Я приехал навестить вас, матушка, – смиренно произнес он.
Сеньора Хинеса кивнула без тени удивления или радости, словно они расстались не пять лет, а пять минут назад.
– Это хорошо, – сказала она, – так как я хочу составить завещание и должна обсудить это с тобой.
– Да, матушка. Только давайте сделаем это позже. Дело в том, что я приехал не один.
– Я решила завещать все, что имею, в пользу Церкви и бедных, – словно не слыша сына, промолвила сеньора Хинеса, – поскольку ты удалился от мира и никогда в него не вернешься.
– Поступайте, как вам угодно, – терпеливо промолвил Рамон, – это ваше право. Только сначала выслушайте меня. Внизу вас ждут ваша невестка и внучка.
Голова сеньоры Хинесы болезненно дернулась; на ее лице появились красные пятна, а глаза сделались похожими на погасшие угли.
– Какая невестка? Какая внучка? – спросила она высоким от напряжения голосом. – Ты хочешь сказать, твои жена и дочь?! У тебя не может быть ни жены, ни детей, значит, у меня не должно быть ни невестки, ни внуков!
– У вас есть второй сын, матушка. Старший сын, Эрнан Монкада.
– Не повторяй это имя! – прошипела женщина. – Я не хочу его слышать!
– Почему? Разве он не был вашим сыном?
– Да, был, именно был! Много лет назад, но не теперь. Представляю, что с ним сделал Луис, в кого превратил! Ничто не спасет его душу!
Рамон жестко и решительно произнес:
– Мне кажется странным, матушка, что вы постоянно твердили о сундучке с дворянской грамотой, но ни разу не упомянули о том, что у меня есть брат!
Наступила пауза. Глаза Рамона метали молнии. Сеньора Хинеса молчала. Потом нерешительно произнесла:
– Она говорит по-испански?
– Кто?
– Та женщина, что ждет внизу.
– Нет. Она голландка и не знает нашего языка.
– Как же я буду с ней разговаривать?
– Я выучил голландский и смогу перевести все, что вы скажете.
– Тогда передай ей, что я не хочу ее видеть!
– Почему? Она хорошо воспитана, юна и мила.
– Под самой невинной маской может скрываться отвратительное зло, – убежденно заявила сеньора Хинеса и вперилась взглядом в лицо сына. – Посмотри на себя, Рамон! Как ты изменился!
Он попытался рассмеяться.
– Возможно, я немного постарел за эти годы.
– Ты не постарел! Я говорю не об этом. На твоем лице – печать порока! Прежде ты был похож на одинокое хрупкое деревце, у тебя был чистый, отрешенный, неземной взгляд! Теперь ты напоминаешь сорную траву, политую навозной жижей. Чем ты занимался все это время?
– У меня много дел, матушка. Как вам известно, я настоятель мужского монастыря.
– Не лги! На твоих губах – следы поцелуев, твое тело корчится от похоти, твои руки изнывают от жажды объятий! В тебе играет дурная кровь, кровь твоего отца!
Ее взгляд излучал безумное напряжение. Рамон понял, что лучшей защитой от ее пугающих откровенностью, полубезумных речей будет каменное спокойствие.
– Мне лучше уйти, – сказал он, – прощайте. Можете писать на меня доносы хоть в инквизицию, хоть его святейшеству Папе Римскому. Мне все равно.
Катарина послушно ждала внизу. Она сидела на узкой деревянной скамье, а Исабель беспечно бегала по дворику.
Рамон остановился. Он боялся, что выражение лица выдаст его смятение.
– Я оказался прав, Кэти, – коротко произнес он. – Она не в себе. Нам лучше уйти.
Рамону почудилось, что Катарина ничуть не удивилась.
– Хорошо, уйдем.
В это время сверху донесся полный отчаяния крик:
– Вернись, Рамон! Вернись!
Он остановился в нерешительности. Сеньора Хинеса стояла на внутреннем балкончике и смотрела на них. Потом сдержанно произнесла:
– Поднимайтесь.
Рамон и Катарина переглянулись. Он направился к лестнице, молодая женщина взяла за руку ребенка и пошла следом.
Катарина поклонилась сеньоре Хинесе. И тут же поняла, что напрасно столь тщательно выбирала наряд, укладывала волосы и затягивала их в золотистую сетку. Появись она в королевском платье или в нищенском рубище, сеньора Хинеса смотрела бы на нее как на диковинное растение или экзотическое животное, которое опасно брать в руки. Мать Рамона и Эрнана перевела взгляд на Исабель, и в ее лице появился проблеск интереса.
– Она тоже не говорит по-испански? – осведомилась сеньора Хинеса.
– Нет, но я собираюсь заняться ее обучением.
Женщина с расстановкой произнесла:
– Теперь ты доволен? Ты добился своего – показал мне эту варварскую девушку и ее ребенка.
– Это не варварская девушка. Она католичка, знает латынь. Она получила монастырское воспитание.
Сеньора Хинеса не обратила на его слова никакого внимания.
– Ты собираешься навестить своего духовного наставника аббата Ринкона?
Рамон не задумывался об этом, однако проще было ответить утвердительно.
– Да, – сказал он.
– Ты исповедуешься ему? – Она смотрела властно и строго.
– Только в том, что считаю грехом.
Пока они говорили, Катарина внимательно смотрела на сеньору Хинесу. В ее больших глазах, ярко выделявшихся на худом лице, было что-то навязчивое, непонятное, чужое. Эти глаза внушали странную тревогу, предчувствие чего-то дурного. Чувства этой женщины не были похожи на чувства других людей, и мысли вызывали опасение.
Внезапно Катарина поняла, что прежде во взгляде Рамона было куда больше сходства со взглядом сеньоры Хинесы, чем сейчас. Он преодолел что-то важное, его сердце более не было сковано цепями страха и предрассудков. Он стал гораздо свободнее и был готов заплатить за эту свободу.
– Как ее зовут? – Сеньора Хинеса указала на ребенка.
– Исабель Монкада.
– Понятно.
– Нам пора идти, – сказал Рамон.
– Я потеряла тебя, – ответила женщина, пронзая его взглядом.
– Вы с самого начала знали, матушка, что я принадлежу Господу Богу, – невозмутимо заметил Рамон.
Они с Катариной поселились в небольшой гостинице, в комнатах, выходивших окнами на шумную рыночную площадь. Рамон был сильно взволнован и никак не мог успокоиться. Они кое-как дотянули до вечера, а потом зажгли свечи и заказали вина. Уложив Исабель, Катарина пришла в комнату Рамона.
Он сидел на кровати в своей сутане, держа в руке бокал, и сияние свечей отражалось в стекле красноватыми отблесками. Свежий воздух врывался в полуоткрытое окно. У Рамона было потерянное выражение лица.

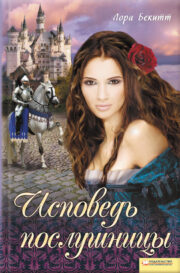
"Исповедь послушницы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Исповедь послушницы (сборник)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Исповедь послушницы (сборник)" друзьям в соцсетях.