Будто угадав его сомнения, аббат Опандо решительно произнес:
– Прошу вас, Рамон. Надеюсь, вы не будете возражать, если я стану называть вас по имени?
– Мой прежний духовный наставник, аббат Ринкон, называл меня именно так.
– Ешьте и пейте. Вино неплохое. Хотя это, конечно, не Испания. – И, проницательно глядя Рамону в глаза, добавил: – Ешьте, в вашем возрасте это необходимо. Пост есть пост, а в остальное время я слежу, чтобы братья хорошо питались. Голод ослабляет волю. Кстати, сколько вам лет?
– Двадцать шесть.
– Я бы дал вам еще меньше. Думаю, на первых порах вам придется нелегко, но я рад, что вы приехали.
Его голос звучал мягко, казалось, аббата Опандо не посещала даже тень мысли о грядущем соперничестве со своим молодым заместителем.
Рамон ел и пил, чувствуя, как исчезает усталость и в душе воцаряется какой-то особый, простой и легкий, а главное – независимый от внешних вещей покой.
И все-таки кое-что его тревожило, потому через некоторое время он заставил себя сказать:
– Я слышал, в этой стране много еретиков?
Аббат пожал плечами.
– Еретики? Не могу похвастать, что уделяю много времени духовному воспитанию братии, слишком часто я вынужден решать чисто мирские вопросы: например, где достать подходящие доски для починки крыши! Но я стараюсь занять умы и руки своих монахов. В моем аббатстве нет ереси. Что касается обширных владений нашего доблестного сеньора Нидерландов,[13] за них я отвечать не могу.
– Если в Амстердаме, пусть и за стенами обители, есть противники нашей веры, это не может нас не касаться. К тому же ересь – это школа мятежа, – осторожно произнес Рамон.
– Я и не говорю, что это нас не касается, – ответил аббат. – К сожалению, в нашем грешном мире есть место злу, перед которым мы бессильны. Остается помнить две вещи: все-таки мы находимся в чужой стране, а еще все мы, в сущности, – дети Божьи.
Он произнес это со спокойной и твердой уверенностью, и Рамон почувствовал, что, несмотря на видимое добродушие, в аббате Опандо было нечто такое, что действует на людей, и что он без сожаления отдает всю свою душу тому делу, которое ему поручено.
Заметив, что в Амстердаме наверняка слишком прохладно после Испании, аббат распорядился отвести Рамона в келью, где была печка. И добавил, что завтра же подберет человека, который займется с ним голландским языком. Он ничего не сказал насчет часа пробуждения, а Рамон не спросил, полагая, что наверняка услышит звук колокола. После весьма рассеянной молитвы он, даже не раздевшись, упал на кровать и мгновенно погрузился в сон.
Когда отец Рамон проснулся, на дворе сияло позднее утро. Стремительно вскочив с постели, он бросился к окну. На фоне синего неба с великолепной отчетливостью выделялась вереница монастырских зданий. Над собором пламенело огромное, прекрасное, воистину божественное солнце. Острые шпили башен вонзались в небо; казалось, по ним можно было взобраться на облака.
Отец Рамон был в панике. С ним случилось то, чего не случалось еще никогда: он проспал! Причем проспал не только всенощную, но и час индивидуальной молитвы, и даже капитул![14] А что, если и утреннюю мессу?! Он, новый приор! Рамон не замечал чудесного утра, лежащих на полу золотых полос солнечного света, видневшегося в окне ярко-синего квадрата неба – перед ним вставала во всю мощь и высь жуткая громада законов, предрассудков и правил.
Ни разу в жизни он не просыпался после восхода солнца, никогда не позволял себе нежиться в постели! Рамон помнил, как в детстве просыпался от того, что сеньора Хинеса трясла его безжалостной, твердой рукой. Занятия в монастырской школе начинались засветло, а после был колледж с его правилами, сходными с правилами монастыря. И Рамон никогда не задумывался о том, что можно жить как-то иначе.
Он покинул келью с чувством глубокой растерянности, смятения и вины. К его изумлению, аббат Опандо встретил ослушника добродушной, даже немного лукавой улыбкой.
– Полно, Рамон! Я прекрасно понимаю, что вам нужно было как следует выспаться. Сейчас вас проведут в умывальную комнату, потом я познакомлю вас с монастырем, затем – месса, а после придется приниматься за дела.
Они переходили из кельи в келью, со двора во двор, из зала в зал, из внутренних галерей во внешние.
Аббат Опандо с воодушевлением и нескрываемой гордостью рассказывал Рамону обо всем, что попадалось им на глаза, в результате оба чуть было не опоздали на мессу. И хотя в этот час в храме собралась вся монашеская братия, аббат не представил им нового приора.
– Я сделаю это во время завтрашнего капитула, – заявил он.
И действительно сделал – без лишней торжественности, очень мудро и просто. Рамон был горд – он не сомневался в том, что способен принести обители большую пользу.
У аббата Опандо было много дел, и он не имел возможности руководить новым приором и направлять его действия, потому в последующие дни Рамон почувствовал себя забытым. Он решил не обращаться к настоятелю с вопросами и вознамерился самостоятельно постичь особенности жизни в обители.
Судя по всему, ереси в аббатстве действительно не было, но разве можно узнать, какие мысли таятся в головах людей, которые большую часть времени молчат, общаются при помощи жестов и ходят не поднимая глаз?
Рамону понравилась монастырская библиотека с множеством редких и дорогих книг, и он с удовольствием посетил скрипторий[15]. Он и сам мог похвастать красивым почерком, недаром сразу после колледжа его приняли в канцелярию! Несколько дней новый приор наблюдал за работой монахов и пришел к выводу, что в этой обители переписывание книг признается едва ли не самой полезной и почетной работой.
Вскоре он заметил, что одно из мест за конторкой для письма с раннего утра всегда пустовало, – этот монах неизменно являлся на работу позже других. Рамону удалось выяснить, что брат Бартолд не встает раньше начала капитула, а иногда просыпается только к мессе! Новый приор без колебаний подошел к одному из старших монахов, который руководил работой в скриптории, и строго отчитал его. По мнению Рамона, проступок брата Бартолда необходимо было осудить на обвинительном капитуле.
Старший монах смиренно выслушал приора, потом кивнул и поклонился. Однако через пару дней Рамона вызвал аббат Опандо и с ходу заявил:
– Брат Бартолд отсутствует на всенощной с моего разрешения. У него слабое здоровье – пусть спит подольше.
– Он не выглядит больным, – возразил Рамон.
– Его глаза и ум должны отдыхать. За день он переписывает десять или даже более листов – в два раза больше, чем любой другой монах. Суть жизни брата Бартолда – в любимом деле.
– Он член братии и обязан посвящать определенное количество часов ночным бдениям и молитвам, – упрямо произнес Рамон.
Аббат Опандо окинул его задумчивым взглядом.
– И какому наказанию вы бы подвергли брата Бартолда?
– Это решает капитул.
– И все же?
– Я поручил бы ему другую работу, необязательно неприятную, но ту, к которой он менее склонен, – сказал Рамон.
– Умно! И жестоко.
– Почему? На мой взгляд, человек должен заниматься не только любимым делом.
– Вот как? Я не согласен с вами. Душа каждого человека ищет свое место в этом мире. И если она его находит – это прекрасно! Брат Бартолд, переписывая книги, чувствует себя счастливым, и я горжусь тем, что в моей обители есть такой человек. Благодаря его труду мы донесем до потомков те бесценные знания, что содержатся в книгах.
– Но мы не миряне! – воскликнул отец Рамон. – Мы служим Господу, а не ищем удовольствий или призрачного счастья!
– Мы – люди, а потому не должны утрачивать человеческой сущности. Это тоже грех. Не стоит слишком притеснять монахов, они и без того привыкли повиноваться. Жизнь далеко не всегда можно подчинить догмам, как невозможно вечно подстраиваться под окружающий мир и мнение других людей.
На этом разговор был закончен. С тех пор Рамон решил затаиться и скользил по галереям и залам незаметный и безмолвный, как тень, исподволь изучая обычаи монастыря. Благодаря характеру аббата Опандо монастырь существовал не сам для себя, а во многом – для окружавшего его мира. Настоятель взял за правило замечать все, что лежит по другую сторону священных стен, и по возможности участвовать в этой жизни. «Служение людям есть один из главных путей, ведущих к Богу», – обычно говорил аббат Опандо. Его монахи занимались изучением и сбором полезных растений и приготовлением лекарств, обучением детей, принимали толпы нищих и просто нуждавшихся в помощи. Каждое утро за монастырскую ограду выносились котлы с едой – там уже ждали бродяги, бедняки и, к тайному возмущению Рамона, беспечная студенческая братия.
Постепенно Рамон понял, что общение с людьми приносит ему одни огорчения, и сосредоточил свое внимание на монастырских бумагах. День за днем он просиживал за расходными книгами, усердно постигая монастырскую экономику: без сомнения, подобные склонности были унаследованы им от сеньоры Хинесы. Он ни во что не вмешивался, лишь наблюдал за процессиями монахов, направлявшихся из церкви в зал капитулов и обратно. Рамон созерцал жизнь в монастыре, как будто слушал пение псалмов: порой наслаждаясь чистыми, светлыми звуками, а иной раз замечая фальшивые ноты.
А потом случилось неслыханное. Два монаха, отправившихся в город по делам монастыря, были уличены в пьянстве и, что самое ужасное, – в греховной связи с женщинами. Наряду с возмущением Рамон испытал мстительную радость. Вот к чему приводят попустительство и увлеченность мирскими делами!
Аббат Опандо впал в гнев, его голос на обвинительном капитуле звучал подобно раскатам грома. И, хотя виновных приговорили к строгому наказанию, у многих в душе остался осадок, подобный привкусу, который ощущается после вкушения испорченной пищи.
Вскоре аббат Опандо снова вызвал Рамона к себе.
На сей раз он предложил ему не вино, а разведенный водой малиновый сок. Некоторое время они сидели молча. Потом настоятель сказал:

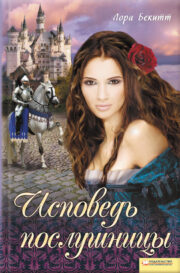
"Исповедь послушницы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Исповедь послушницы (сборник)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Исповедь послушницы (сборник)" друзьям в соцсетях.