Ченчи провел в Сан-Джакомо почти год и узнал там – с величайшим хладнокровием и полнейшим равнодушием – о смерти своих детей, оставшихся в Риме: сын Рокко был убит на дуэли, а дочь Антонина умерла при родах в октябре. О том, что происходило все это время с двумя узницами Петреллы, заботливый отец и муж не беспокоился вовсе.
Между тем, если бы скупость Ченчи не обрекла их почти на нищету, Лукреция и Беатриче сочли бы свое пребывание в зловещем замке даже приятным. Впрочем, чтобы избавиться от семейного палача, они согласились бы и на куда худшие условия. Но зимой женщины, запертые в промозглых и сырых стенах, жестоко страдали от холода, поскольку топить было нечем, хотя Олимпио Кальветти всеми силами стремился помочь им. К несчастью, перед отъездом Ченчи поручил сторожить своих женщин старому Санти ди Помпео, который не уступал хозяину в злобности. И старик Санти старался вовсю. Олимпио сумел сделать только одно: переправить несколько писем Беатриче братьям, которых девушка умоляла о помощи.
Увы, слух об этих жалобах достиг ушей любящего отца. Немедленно покинув больницу, он вскочил на коня и помчался в Петреллу с целью раз и навсегда вразумить свое семейство. Он уже решил, каким образом это сделать лучше всего, по приезде сразу же вызвал к себе интенданта.
– Твои четыре комнаты станут отныне жилищем доньи Лукреции и доньи Беатриче, – заявил он. – А ты со своей родней переберешься в покои, предназначенные для знатных сеньоров.
Олимпио попытался возразить:
– Но, сеньор, мои комнаты не подходят для благородных дам. Они маленькие, с низким потолком, с узкими окнами… Зимой там холодно, а летом жарко.
– На мой взгляд, они даже слишком велики, – сквозь зубы процедил Франческо. – А ты должен исполнить мой приказ, иначе я пожалуюсь твоему господину.
Интендант опустил голову, чувствуя, как в нем закипает гнев. Вот уже больше года он был свидетелем нищенской жизни Беатриче. Постепенно жалость к этой девушке и восхищение ею превратились в великую любовь. Олимпио сгорал от страсти и был готов на все ради этой мужественной красавицы. Однако Беатриче, даже прозябая в убожестве, оставалась знатной дамой – хотя бы в силу своего рождения, – и пропасть отделяла ее от бывшего солдата, ставшего интендантом. Никогда Олимпио не осмелился бы признаться ей в своих чувствах. К тому же он был женат и мог лишь с бессильной яростью наблюдать за тем, как готовилась для женщин новая пытка, придуманная Ченчи в отместку за их жалобы.
Четыре комнаты, в которых обычно жила семья Кальветти, находились под самой крышей замка. Окна были почти наглухо закрыты толстыми дубовыми ставнями, пропуская внутрь лишь совсем немного света и воздуха. Ченчи распорядился навесить на дверь засовы и пробить в ней маленькое окошечко. Беатриче и ее мачехе сообщили, что отныне они будут жить в этих душных каморках. Старому Санти было приказано подавать пленницам пищу через окошко, но никогда не входить к ним. Обезумевшая от ужаса Лукреция бросилась в ноги мужу.
– Вы не можете обречь нас на заточение! – воскликнула несчастная женщина. – Если мы вам так ненавистны, позвольте нам удалиться в монастырь, где нас, по крайней мере, не лишат света и воздуха.
Ченчи грубо отшвырнул ее.
– Нет! – прорычал он. – Я хочу, чтобы ты сдохла здесь – и она вместе с тобою…
Беатриче снова пришлось поднимать рыдающую Лукрецию. Самой же ей помогала сохранять гордость неукротимая ненависть, и ни за какие блага мира она не унизилась бы до мольбы.
– Пойдемте, матушка, не доставляйте ему радости просьбами и слезами! – надменно произнесла Беатриче.
Потом, держась очень прямо и не удостоив ни единым взглядом чудовищного отца, она вошла в свою тюрьму, и засовы с грохотом опустились.
Довольный Франческо Ченчи вернулся в Рим.
Прошло несколько месяцев – мучительных для Олимпио, который отныне не мог даже видеть пленниц. Единственное, что интендант мог сделать для них, – это следить за тем, чтобы им подавали хорошую пищу. Но в отношении одежды распоряжения Франческо граничили с садистской жестокостью. Если узницам нужно было получить новое платье или пару обуви, они должны были отправить износившиеся вещи в Рим и дожидаться, с босыми ногами и в одних сорочках, пока мерзкий скряга не удостоверится в необходимости замены и не восполнит их гардероб. Естественно, Ченчи в таких случаях не спешил.
В этом заточении Лукреция и Беатриче провели свой второй год в крепости Петрелла. Олимпио кусал локти от бессилия, поскольку не смел проявлять симпатию к пленницам из-за своей жены Плаутиллы, которая отличалась болезненной ревностью и злобным нравом.
В одно весеннее утро 1598 года, когда жаркое солнце уже раскалило черепичную кровлю Петреллы, старый Санти направился к дверям тюрьмы с подносом. Открыв окошко, он грубо бросил:
– А вот и жратва на сегодня!
В узком проеме возникло бледное лицо Беатриче.
– Донья Лукреция больна, – произнесла она хриплым голосом. – Я боюсь, что эта жара убьет ее. Приоткрой дверь хоть немного, чтобы впустить воздух. Иначе она не доживет до вечера.
Старик в раздумье поскреб голову. Приказ Ченчи был категоричен – никогда не открывать дверь. Но, с другой стороны, ни одна из пленниц не должна была ускользнуть из тюрьмы. Что скажет хозяин, если Лукреция умрет? В какой-то мере это тоже был способ бегства…
– Ладно, – проворчал он. – На минуточку – так и быть, но не больше…
Сняв засов и вставив в скважину замка ключ, который всегда болтался у него на поясе, он с кряхтеньем приоткрыл дверь. Однако едва лишь створка отошла на несколько сантиметров от косяка, изнутри дверь резко толкнули, и старик получил удар в лицо. Изможденная и худая, но с горящими от ярости глазами Беатриче ринулась на стражника, подняв над головой табурет. Санти в испуге загородился локтем, и девушка расхохоталась.
– Теперь ты сам можешь оставаться в этой конуре, а мы туда больше не войдем! – крикнула она.
– О мадонна! Что скажет сеньор Франческо?
– Пусть говорит, что хочет, мне на это плевать. Если ты донесешь ему, клянусь, я тебя убью! И это так же верно, как то, что меня зовут Беатриче!
После долгих переговоров, в которых принял участие и безмерно счастливый Олимпио, было решено, что обе женщины обязуются не выходить за ворота замка – когда же Ченчи вернется, они должны будут занять прежнее место в тюрьме. Слава богу, он никогда не задерживался в Петрелле надолго.
Для несчастных узниц наступило некоторое облегчение, между тем Олимпио с каждым днем все больше мрачнел.
– Так не может продолжаться, сеньора, – однажды сказал он Беатриче. – Вы не должны провести свою юность в этом зловонном каземате! Почему бы вам не бежать?
Но Беатриче печально покачала белокурой головкой.
– Не думаю, что мне это удастся. Я могу сделать только одно: отправить письмо Святейшему Понтифику и поведать ему о нашей бедственной жизни. Пусть папа прикажет сеньору Ченчи (она уже не могла заставить себя называть его отцом) отправить нас в монастырь. Надеюсь, папа нам в этом не откажет. Но мне нужен верный человек. У тебя есть такой?
Олимпио на секунду задумался.
– Да, это Марцио Флориани по прозвищу Каталонец. Мы с ним вместе сражались при Лепанто и стали почти братьями. Я могу рассчитывать на него, как на самого себя. Он отвезет ваше письмо в Рим и передаст секретарю Его Святейшества кардиналу Сальвиати.
– Тогда я дам тебе еще одно письмо – для моего брата Джакомо… Я тебе очень благодарна и никогда не забуду того, что ты сделал для меня…
Но слова уже не значили ничего. Олимпио был стократ вознагражден тем, что Беатриче в первый раз ему улыбнулась.
В сердце Беатриче расцвела надежда, однако сама судьба ополчилась на несчастную девушку. Кардинал Сальвиати получил письмо, но счел неразумным беспокоить Святейшего Понтифика по такому ничтожному поводу, как желание двух женщин удалиться в монастырь. Он послал одного из своих служителей к Франческо Ченчи, который вновь находился в больнице Сан-Джакомо, с приказом отправить супругу и дочь в женский монастырь Монтечиорьо.
Выслушав это распоряжение, Ченчи притворился, будто глубоко раскаивается, обещал сделать все, что от него требуют… и выманил у посланца папы письмо Беатриче. В тот же вечер он устремился в Петреллу, где его приезд поверг всех в несказанный ужас. Однако на сей раз главная опасность угрожала Беатриче.
Отец и дочь стояли друг перед другом: она держалась прямо и гордо, пытаясь скрыть охвативший ее безумный страх, а он сопел, будто разъяренный бык, и глаза у него налились кровью.
– Беатриче, – произнес Франческо, пытаясь с трудом сохранять хладнокровие, – ты писала в Рим…
– Я? Нет.
– Беатриче, ты обвинила своего отца…
– Это неправда!
– Разве это письмо отправлено не из Петреллы? И это не твой почерк?
И Беатриче с ужасом узнала свое письмо, зажатое в грязных пальцах Франческо Ченчи. Мертвенная бледность покрыла ее щеки, она попятилась, но Ченчи уже ринулся на нее. Свалив дочь на пол ударом кулака, он схватил плеть из бычьих сухожилий и принялся хлестать ее с таким остервенением, что на руке, которой она пыталась укрыться от ударов, клочьями повисла кожа. Сжав зубы, девушка сдерживала крик, однако боль оказалась такой невыносимой, что она лишилась чувств.
Видя, что Беатриче лежит неподвижно, Ченчи прекратил избиение и, взвалив ее на плечо, словно мешок, направился в подземный каземат, куда свет – вернее, жалкое его подобие – проникал сквозь узкую щель на уровне земли. Щель эта выходила на задний двор, покрытый нечистотами, поскольку на четвертом этаже находился деревянный балкон с железными прутьями, где было устроено отхожее место. Задний двор вплотную примыкал к неприступной скале, служившей одной из стен замка, поэтому спуститься сюда можно было только по веревочной лестнице. В эту темницу и отнес отец бесчувственное тело своей дочери.
Беатриче провела здесь три дня, и Франческо Ченчи сам заботился о ее пропитании – ежедневно приносил ей кружку воды и кусок хлеба. На четвертый день Лукреция увидела, как Беатриче входит в их комнату. Это была неузнаваемая Беатриче – покрытая рубцами и запекшейся кровью, ужасающе грязная и ослабевшая настолько, что с трудом передвигала ноги. Однако гордость ее осталась несокрушимой, и в глазах сверкала дикая ненависть. Взглянув на мачеху, она еле слышно прошептала:

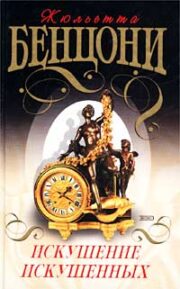
"Искушение искушенных" отзывы
Отзывы читателей о книге "Искушение искушенных". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Искушение искушенных" друзьям в соцсетях.