Приняв вызывающую позу, он бросил на беснующуюся толпу спокойный взгляд своих голубых глаз.
Люди как бы отшатнулись при виде его массивной фигуры. Крики с требованием его смерти мало-помалу ослабли, а затем вовсе сменились молчанием.
Однако не таков был Берн с его обычной запальчивостью. Он ринулся в бой.
— Это безумие! — воскликнул он, воздев руки, как бы призывая небо в свидетели всеобщего помешательства. — Вы должны были бы его повесить двадцать раз, месье де Пейрак, только за тот вред, который он принес Голдсборо. А вы сами, граф, разве вы забыли, что он покушался на вашу честь, что он…
Повелительным жестом Пейрак прервал фразу, которая могла бы затронуть имя Анжелики.
— Если бы он заслуживал быть вздернутым, не мне пришлось бы вести его на виселицу, — сказал он глухим, но непреклонным тоном. — Моя признательность ему не позволила бы мне сделать этого.
— Признательность!?.. Ваша признательность!? Ему?
— Да, моя признательность, — подтвердил граф. — И вот вам факты, которые меня обязывают. Среди подвигов мессира Патюреля не последнее место занимает его бегство — одиссея, сопряженная со страшными опасностями, какую он пережил вместе с несколькими другими пленными, чтобы покинуть Марокко, — бегство, увенчавшееся успехом.
А среди тех, кому он помог достичь христианских земель, находилась женщина, пленница варваров, которую он уберег от страшной судьбы несчастных христианок, попавших в руки мусульман. В то время я сам был в изгнании, сложилось так, что я не знал об участи близких и не мог помочь им, всеми брошенным, отвратить нависшие над ними опасности. Этой женщиной была присутствующая здесь графиня де Пейрак, моя жена. Преданность мессира Патюреля спасла жизнь человеку, который для меня дороже всего на свете. Как же мог я это забыть?
Слабая улыбка осветила его покрытое шрамами лицо.
— Вот почему, господа, предавая забвению возникшие недоразумения, мы, графиня де Пейрак и я сам, видим в обвиняемом вами человеке только друга, достойного нашего полного доверия и глубокого уважения.
В этих последних словах, услышанных Анжеликой будто сквозь сон, ее поразила и, можно сказать, резанула одна формула, прозвучавшая как властный призыв человека, хрипловатым, но четким голосом потребовавшего, приказавшего ей подчиниться уже принятому им решению:
«Графиня де Пейрак и я сам».
Таким образом, он вовлек ее в свой план, не позволил уклониться от него и раскрыл его тайную цель: стереть бесчестие, стереть оскорбление, публично нанесенные ему женой и Коленом. Что было между ними? Ничего, кроме воспоминаний о дружбе и чувства признательности, которые он и сам считал честью разделить. Видоизменяя внешние факты, он маскировал природу страстей, которые волновали их троих.
Она и сама, не поступаясь своей гордостью, инстинктивно встала на ту же позицию.
А вот дали ли себя одурачить протестанты?
Но им ничего другого и не оставалось! Разве что делать вид, что они поверили. Жоффрей де Пейрак решил, что Колен Патюрель достоин управлять вместе с ним его народом, и что между ними нет ничего, кроме дружбы и признательности. И толпе не остается ничего другого, как принять навязанный ей образ.
Кто может воспротивиться несгибаемой воле графа де Пейрака?
Никогда еще Анжелика не ощущала так явственно его железной руки, которая крепко держала их всех, буквально манипулируя ими по своему произволу.
Она испытывала при этом какое-то странное униженное восхищение, в котором не было ни грана теплого чувства, отчего ее страдания были еще более острыми, еще более осознанными.
Он дал приказ «графине де Пейрак», даже не взглянув в ее сторону на протяжении всего своего объяснения; и ни разу в его голосе не прозвучали нотки нежности, которые раньше он не умел скрывать, говоря об Анжелике даже с совершенно чужим человеком.
Взгляды всех присутствующих обращались то к ней, то к двум мужчинам, стоявшим бок о бок на балконе, и трясущиеся губы Анжелики, растерянность, невольно мелькавшая в ее глазах, все более беспокоили, сбивали с толку людей…
Колен, по-прежнему невозмутимый, скрестив руки на груди, продолжал смотреть вдаль поверх голов волнующейся толпы. Его осанка была столь величественна, отличалась таким неподдельным благородством, что его трудно было узнать.
Напрасно искали в нем черты Золотой Бороды, разнузданного пирата, вооруженного до зубов виновника кровавых злодеяний. Рядом с ним, как бы защищая и покрывая своим могуществом, стоял граф де Пейрак, с надменным любопытством и чуть заметной улыбкой наблюдая за результатами задуманного им спектакля.
— Посмотрите на этих трех, — возопил срывающимся голосом Берн, указывая на Анжелику и двух мужчин, — посмотрите на них! Они нас надувают, обманывают нас, издеваются над нами…
Он вертелся как безумный, вне себя от возмущения, а затем сорвал шляпу и запустил ее в толпу.
— Да посмотрите же на этих трех лицемеров! Они что-то еще задумали… До каких пор нас будут водить за нос эти люди? Разве вы забыли, какой бесстыдный народ эти католики?! Они пойдут на все, чтобы осуществить замыслы, порожденные их изворотливыми умами идолопоклонников. Это поразительно! Братья, неужели вы согласитесь с этим незаконным решением, с этим смехотворным, оскорбительным приговором?.. Неужели вы согласитесь попасть в зависимость от самого гнусного субъекта, с каким нам когда-либо приходилось сталкиваться? Неужели вы согласитесь принимать в наших стенах этого преступника, этого распущенного типа, которого нам хотят навязать как колониста?..
— А твои преступления. Золотая Борода! — прорычал он, повернувшись в порыве ненависти к Колену.
— А твои, гугенот! — ответил тот, наклонившись над балюстрадой и вонзив голубой клинок своего взгляда в глаза протестанта.
— Мои руки не испачканы кровью ближних, — возразил Берн надменным тоном.
— Как бы не так… Здесь нет никого, чьи руки не были бы замараны кровью ближних. Поищи как следует, гугенот, и ты вспомнишь тех, кого принес в жертву, убил, растерзал, задушил своими собственными руками. Как бы глубоко и далеко ты их ни спрятал, поищи их, гугенот, и ты увидишь, как выплывут на поверхность твои преступления и их жертвы с мертвыми глазницами и заломленными руками.
Берн воззрился на него в молчании. Затем пошатнулся, словно от удара молнии, и отступил назад. Громовой голос Патюреля вызвал в нем воспоминания о тайной борьбе, которую вели гугеноты в Ла-Рошели на протяжении более века. А они вдруг словно почувствовали смердящую вонь морских колодцев, куда сбрасывали трупы полицейских агентов и иезуитов.
— Да, — продолжил Колен, прищуривая глаза, чтобы лучше видеть своих противников, — я знаю. Я хорошо знаю. Вы вынуждены были защищаться! Но убивают ВСЕГДА, защищая себя. Себя, своих близких, свою жизнь, свою цель, свои мечты. Очень редко убивают только из злых побуждений. Но снисхождение грешника к своим ошибкам может разделить лишь Бог, так как только для него открыты все души и сердца. Человек всегда встретит на своем жизненном пути брата, который скажет ему: «Ты — убийца. Я — нет!». Но этого в наше время не существует, нет человека, который бы никогда не убивал. В наше время на руках человека, достойного этого имени, всегда есть пятна крови. Я сказал бы даже, что убийство — это задача и неотъемлемое право мужчины, получаемое им при рождении, поскольку наше время — это время волчьих законов, хотя Христос уже побывал среди нас. Перестаньте же говорить о соседе:
«Ты преступник, я же — нет!» Вы вынуждены убивать, но в вашей власти хотя бы работать для жизни… Вы спасли ваши жизни, гугеноты Ла-Рошели, вам удалось ускользнуть от своих палачей! Откажете ли вы другим, тем, кто, как и вы, был обречен, в том шансе, который получили вы, пусть вы и считаете себя избранниками божьими» единственно достойными выжить?..
Ларошельцы, которых тирада Колена застала врасплох, начали понемногу приходить в себя, и их взгляды обратились к экипажу «Сердца Марии». Тут уж сбить их с толку было не так просто.
К балкону подошел господин Маниго.
— Оставим в стороне ваши рассуждения о так называемых преступлениях, которыми запятнаны наши руки. Бог не оставит своих праведников. Но не хотите ли вы сказать, месье, — произнес он, особо подчеркнув слово «месье», что вы предполагаете.., навязать нам с согласия графа де Пейрака также и сосуществование здесь, в Голдсборо, с этими опасными негодяями, которые составляли ваш экипаж?
— Вы очень ошибаетесь насчет моего экипажа, — возразил Колен. — Большинство из них — честные люди, которые отправились со мной в это плавание как раз в надежде стать колонистами и получить наконец возможность бросить якорь в подходящем месте, где им предложили бы добрую землю да хорошую женщину в жены. Даже право собственности на те места, где вы проживаете, было оплачено мной и ими звонкой монетой и подтверждено контрактами. К несчастью, произошло явное недоразумение, и я теперь полагаю, что был обманут моими парижскими банкирами, которые указали мне именно это место в Голдсборо, как никем не занятое и принадлежащее французам. Если верить пергаментам, мы имеем на эти участки больше прав, чем вы, реформатские беженцы, и месье де Пейрак признал это, но высокопоставленные невежды Франции, видимо, забыли, что Бредский договор оставил их под юрисдикцией англичан. Я тоже признаю это и склоняюсь перед судьбой. Бумаги можно выбросить или пустить в ход, если захотеть. Другое дело земля. Слишком много добрых людей стали жертвами промахов невежд.., или интриг жуликов, дурачивших доверчивых людей.
Месье де Пейрак готов представить вам доказательства справедливости того, о чем я вам сообщил, и обсудить это с вами в частном порядке. Что же касается принятых нами совместно решений и заключенных контрактов о взаимных обязательствах, дело уже сделано, и нет смысла к нему возвращаться. Остается только подумать всем вместе, как употребить их ради добра, а не ради зла.
Голос Колена, неумолимый, но вкрадчивый, действовал успокаивающе, пресекая в зародыше всякую попытку протеста, а взгляд его неудержимо притягивал внимание.

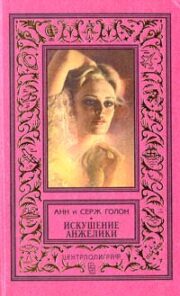
"Искушение Анжелики" отзывы
Отзывы читателей о книге "Искушение Анжелики". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Искушение Анжелики" друзьям в соцсетях.