— Милая моя девочка, мне уже пора, — сказала Анжелика, не замедляя шагов.
— Я и так у вас слишком задержалась. Мне уже сейчас следовало бы быть на берегу, где меня ждет корабль… А теперь раньше, чем на рассвете, мы там не окажемся…
Проявив трогательные заботливость и внимание, маленькая англичанка захотела взять у нее сумку и понести.
Они вместе поднялись на косогор и за поворотом увидели последние дома поселка, самые маленькие и самые бедные, построенные из неотесанных бревен и покрытые сеном или древесной корой. Еще дальше показался последний дом: большая овчарня.
Перед этими домами был еще сарай, тот самый, где ночевали французы, и где сейчас Адемар должен был отсыпаться после всех страхов, которые ему пришлось пережить. Поодаль находился окруженный цветами домик школьной учительницы мисс Пиджон. Стоявшее несколько в стороне среди огороженных заборами выпасов здание овчарни с его прочной торцовой стеной и флюгером выглядело довольно внушительно. Дальше был овраг, через который они прошли вчера вечером. Затем, на склоне холма, несколько возделанных участков, и наконец лес — море деревьев, бурные ручьи и крутые горы.
В саду мисс Пиджон виднелся внушительный бюст мистрис Уильям — бабушки Роз-Анн. Она стояла посреди шток-роз и проворными пальцами обрывала увядшие лепестки. Энергичным жестом руки она подозвала к себе Анжелику. Та поставила сумку на землю и подошла попрощаться с ней.
— Посмотрите на эти розы, — сказала мистрис Уильям. — Должны ли они страдать, потому что сегодня день, который мы должны посвящать Господу? Мне уже пришлось выслушивать по этому поводу замечание от нашего пастора. Но я ему ответила, как надо. Так что сегодня мы вроде как бы квиты…
И указательным пальцем, на который был надет кожаный напальчник, она показала на стоявший позади домик.
— Он там, причащает эту бедняжку Элизабет! И она вновь принялась за свою работу. Ее пронзительный взгляд из-под тяжелых лиловых век еще гневно сверкал, но уголки губ уже поднялись вверх, и на лице появилось нечто вроде полуулыбки.
— Может быть, меня когда-нибудь и поставят к позорному столбу, — сказала она. — А рядом будет написано: «За то, что она слишком сильно любила розы!»
Анжелика также улыбнулась, испытывая некоторое замешательство. Еще вчера, когда она впервые встретилась с этой внешне очень суровой и высоконравственной старой дамой, ей показалось, что та как бы забавляется тем, что все время выставляет себя в неожиданном свете. Анжелика не могла понять, какая она на самом деле. И сейчас ей было неясно, то ли та смеется, шутит, провоцирует, то ли Анжелика не все правильно улавливает в ее английской речи. У нее даже мелькнула мысль, что почтенная пуританка имеет определенное пристрастие к крепким напиткам, джину или рому, и это временами приводит ее в шутливое настроение, но она быстро отогнала от себя эту неуместную и чудовищную мысль. Нет, все дело в другом. Может быть, это своего рода опьянение, но бессознательное, проистекающее из очень чистого источника.
И когда эта крупная женщина, которая была выше нее на целую голову и выглядела солидной, твердой, как скала, вдруг заговорила легко и свободно, Анжелика снова стала испытывать ощущение чего-то нереального, сомневаться, действительно ли она находится здесь, как будто все кругом не настоящее и земля уходит из-под ног. Кажется, что ты спишь и вот-вот должен проснуться, но пробуждение все не наступает.».
Природа как бы застыла, наполненная благоуханием цветов и жужжанием пчел.
Сара Уильям вышла из этого массива роз, погладив ласкающим жестом их ветви, имевшие зеленые, розовые и чисто белые тона.
— Во г они по-настоящему счастливы, — пробормотала она.
Она открыла калитку и подошла к Анжелике. Потом сняла с руки перчатку и засунула ее в висевший на поясе мешок с садовыми инструментами. При этом она не отрывала взгляда от лица иностранки, которая вчера привела к ней ее внучку.
— Вам приходилось встречать французского короля Людовика XIV? — спросила она. — Вы видели его близко? Да, это чувствуется. Отблеск Короля-солнца остается па вас. Ах! Эти француженки, сколько в них грации!.. Давайте, пройдитесь, пройдитесь, — и она сделала рукой приглашающий жест, — пройдитесь немного передо мной…
Ее улыбка в уголках рта стала более явственной, веселье как бы готово было выплеснуться наружу.
— Я, наверное, уже впадаю в детство. Я люблю все яркое, красивое, свежее…
Анжелика сделала несколько шагов, как ее попросила об этом старая женщина, и обернулась.
Взгляд ее зеленых глаз спрашивал, этого ли от нее хотят, и ее лицо невольно приняло детское выражение. Старая Сара Уильям ее как бы гипнотизировала. Она стояла посреди единственной в деревне дороги, которая была одновременно и улицей, и дорогой, и тропинкой и вела через весь поселок от леса к расположенному на холме «дому собраний». На нее падала тень от высоких вязов, отблеск от листвы которых делал еще более бледными ее и без того как бы покрытые воском щеки. Положив руку на бедро, она стояла прямо, с высоко поднятой головой, и ее осанке могла бы позавидовать любая королева. Стройность ее стянутой жестким корсетом талии подчеркивала фижма из черного бархата, опоясывающая бедра. Это была мода начала века, и Анжелика вспомнила, что так одевались ее мать и тетки. Но черное платье, надетое поверх темно-фиолетовой второй юбки, было более коротким, чем в те времена. При этом мистрис Уильям не боялась, что будут видны ее высокие черные сапоги, в которых она чувствовала себя удобно при ходьбе по размытым дорогам и мокрым полям.
«Как эта женщина была красива в молодости!» — подумала Анжелика. — «Когда-нибудь и я буду похожа на нее…»
Она хорошо представила себя обутой в такие же сапоги и идущей по своей усадьбе такой же живой твердой походкой. Она будет немного осторожной, и в то же время уверенной в себе и приходящей в восторг при одном виде цветущего поля или делающего свои первые шаги ребенка. Возможно, правда, она будет менее строгой и менее суровой. Но разве мистрис Уильям такая уж суровая?.. Когда она шла, то на ее лице, с тяжеловатыми, но полными гармонии чертами, отражался изумрудный цвет листвы деревьев, и оно как бы светилось счастьем. Она вдруг остановилась рядом с Анжеликой, и выражение ее лица резко изменилось.
— Вы не чувствуете запах дикаря? — спросила она, и ее все еще черные брови нахмурились, а ее лицо вновь приняло строгое выражение.
Она сказала: «Краснокожего»… В ее голосе послышались ужас и отвращение.
— Вы не чувствуете?
— Нет, не чувствую, — ответила Анжелика. Но при этом она невольно вздрогнула. Никогда ранее воздух на этих холмах не казался ей таким благоуханным. Аромат жимолости и лиан смешивался с ароматом цветущих садов, в котором особо выделялся запах сирени и меда.
— Я часто чувствую этот запах, слишком часто, — произнесла Сара Уильям, встряхнув головой, как бы в чем-то упрекая себя. — Я его всегда чувствую. Он смешался со всей моей жизнью. Он меня постоянно преследует. И, однако, уже давно мне не приходилось вместе с Бенджаменом брать в руки ружье, чтобы защитить свой дом от этих красных змей.
Когда я была еще девочкой.., и позже, когда мы жили в своей хижине недалеко от Уэльса…
Она замолчала и снова встряхнула головой, как бы не желая вспоминать об этих событиях, полных страха и борьбы.
— Там было море… В конце концов, можно было убежать. А здесь нет моря…
И сделала еще несколько шагов. — Здесь очень красиво, не правда ли? — спросила она менее категоричным тоном.
Маленькая Роз-Анн, стоя в траве на коленях, собирала ярко-оранжевые цветы аквилегии.
— Невееваник, — пробормотала старая женщина.
— Весенняя земля, — сказала Анжелика.
— Вы тоже знаете? — спросила англичанка, быстро взглянув на нее.
И снова ее черные глаза внимательно посмотрели на Анжелику, эту иностранку, француженку, пытаясь прочесть ее мысли, что-то отгадать, получить какой-то ответ, найти какое-то объяснение.
— Америка? — сказала она. — Так вы, правда, ее любите?.. Однако, вы еще так молоды…
— Не такая уж я молодая, — возразила Анжелика. — Знайте, что моему старшему сыну семнадцать лет, и что…
Ее перебил смех старой Сары. Она засмеялась в первый раз. Смех ее был звонкий, непосредственный, почти как у девочки, при этом стали видны ее крупные, немного лошадиные, но здоровые и отлично сохранившиеся зубы.
— Ох, нет, вы еще молоды, — повторила она. — И вообще, перед вами, дорогая моя, еще почти вся жизнь!
— Неужели вся?
Анжелика готова была разозлиться. Конечно, те двадцать пять лет, на которые мистрис Уильям была старше ее, может быть, позволяли той демонстрировать свою снисходительность, но Анжелика полагала, что прожитая ею жизнь не была ни такой уж короткой, ни такой уж бесцветной, чтобы она не могла считать себя знающей, что такое «жизнь»…
— Вы начинаете новую жизнь! — заявила мистрис Уильям не терпящим возражений тоном. — Она едва только началась!
— Неужели?
— У вас это звучит просто очаровательно, когда вы спрашиваете: «Неужели?» Ох, уж эти француженки, какие они счастливые! Вы, как пламя, которое начинает искриться и уверенно разгорается в этом мире мрака, который вас больше не страшит!.. Только теперь вы начинаете жить, разве вы этого не чувствуете? Когда вы еще совсем молоды, то вас впереди ждут еще все тяготы жизни, и вы должны доказать, что вы способны… Это очень трудно! И вам предстоит это делать в одиночку… Когда кончается детство, разве есть на свете кто-нибудь более одинокий, чем молодая женщина?.. А в сорок, в пятьдесят лет можно начинать жить! Вы уже доказали, что вам это по силам! Да что там говорить. Вы снова становитесь свободной, как ребенок, вы вновь себя обретаете… Мне кажется, что я никогда не получала большего удовлетворения, чем в тот день, когда поняла, что юность от меня уходит, наконец уходит. Моя душа показалась мне вдруг такой легкой, мое сердце стало более нежным и более чувствительным, и мои глаза вдруг увидели мир. Сам Бог, казалось, становился моим другом. Я всегда была одинока и привыкла к этому. Я купила у уличного продавца шляпок два самых красивых, из тех что у него были, чепчика с кружевами. И ни гнев пастора, ни недовольство Бена не могли заставить меня отказаться от них. С тех пор я их всегда ношу.

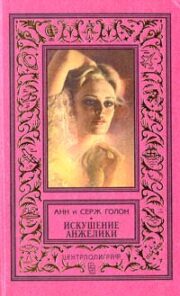
"Искушение Анжелики" отзывы
Отзывы читателей о книге "Искушение Анжелики". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Искушение Анжелики" друзьям в соцсетях.