— Мой ребёнок не нуждается в подобной помощи, ясно вам это или нет?! Семён говорит, что не брал никакого яблока, значит, так оно и было. У меня нет оснований не верить его словам.
— У меня тоже нет оснований не верить своим глазам.
Внезапно в кабинете повисла тишина, нарушаемая только громыханием жестяного ведра уборщицы, раздававшимся где-то в дальнем конце школьного этажа, да равномерным треньканьем стрелки допотопных стареньких часов с круглым циферблатом, прикреплённых почти у самого потолка с внешней стороны дверей.
— Вы видели, как мой ребёнок убирал это злосчастное яблоко к себе в портфель? — нарочито медленно проговорила Надежда, и её зрачки сузились в две недобрых узких щели.
— Я видела, как оно выкатилось из его ранца на парту.
— Я ещё раз повторю свой вопрос, — скулы Надежды дёрнулись, и её густо-серые глаза стали совсем тёмными. — Были ли вы свидетелем того, как Семён крал чужую вещь?
— Этого момента я не видела, но…
— Так какое же вы имели право объявить мальчика вором?! — Надежда с грохотом отодвинула стул и поднялась во весь рост.
— Зачем вы пытаетесь всё перевернуть с ног на голову? — ощущая себя не в своей тарелке, воспитательница тоже поднялась на ноги. — Я позвала вас вовсе не для того, чтобы унизить вас или вашего сына, а для того, чтобы сказать, что сегодня произошёл досадный инцидент, понимаете? И только! А вы раздули из мухи слона! Кто из нас в детстве не таскал чужих конфеток и ластиков? Но это вовсе не означает, что все поголовно выросли подлецами и нечестными людьми.
— Может быть, лично вас в детстве и прельщали чужие вещи, но ко мне и моему мальчику эта грязь не имеет ровным счётом никакого отношения! — жёстко отпарировала Тополь. — Мой Сёмушка чист, как передовица «Пионерской правды», как младенец на руках Богоматери, как звёздочка в небе, а вы… — Надежда возмущённо дёрнула ноздрями, — вы страшенное чудовище, которого к детям нельзя подпускать даже на пушечный выстрел!
— Надежда Фёдоровна, давайте не станем оскорблять друг друга, а поговорим с вами, как взрослые люди.
— Мне не о чем с вами больше разговаривать!
— Вы всё не так поняли.
— Всё, что мне было нужно, я поняла, — Надежда Фёдоровна по-мужски рубанула воздух ладонью. — С вами я больше никаких переговоров вести не намерена, только не думайте, что вам всё сойдёт с рук. За свои слова вам придётся отвечать, но не здесь, не в этом кабинете.
— Вы решили меня напугать? — пальцы пожилой женщины задрожали. — Я хотела с вами по-хорошему…
— Это вы называете «по-хорошему»?! Третировать семилетнего ребёнка — это, по-вашему, по-хорошему?! — вскипела Надежда. — Да кто вы есть после этого?
— Хорошо… — на глазах воспитательницы показались слёзы. Я не хотела вам говорить, потому что обещала Семёну, но, видно, ничего не поделаешь. Не далее как два часа назад ваша хвалёная «Пионерская правда» во всём созналась. Что вы скажете после этого?
— Я скажу, что вы либо нахально лжёте, пытаясь себя обелить, либо заставили моего бедного мальчика под давлением оговорить себя! — почти выкрикнула Тополь.
— Ваша материнская любовь делает вас слепой! Когда-нибудь вы будете кусать локти и жалеть о том, что не захотели услышать моих сегодняшних слов, — с отчаянием выговорила воспитательница.
— Этого не будет никогда! — в сердцах отрезала Надежда. — И вообще, по какому праву вы вмешиваетесь в то, что вас не касается?
— Пока я работаю в этой школе, меня напрямую касается судьба каждого ребёнка, который здесь учится, — с достоинством произнесла пожилая женщина.
— Я вам обещаю, что работать тут вам осталось совсем недолго. Через две недели вашей ноги не будет в этом учебном заведении, или я буду не я!
Обдав воспитательницу недобрым холодным взглядом, Надежда, не прощаясь, вышла из класса, а ровно через четырнадцать дней, в пятницу, двадцать пятого октября тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, специальным приказом из роно заслуженный воспитатель со всеми почестями была отправлена на заслуженный отдых.
— Особенно мне хотелось бы похвалить Тополя Семёна! — классная руководительница обвела взглядом всех родителей и улыбнулась Надежде, гордо восседающей за первой партой центрального ряда. — Вы знаете, Сёмушка — удивительный ребёнок: отзывчивый, тонкий, чрезвычайно внимательный и исключительно воспитанный мальчик: никогда не откажется исполнить просьбу учителя, всегда подаст руку, выходя из троллейбуса, поможет донести тетрадки из учительской…
— Еврейские штучки! — сидящая за последней партой мамочка наклонилась к уху своей соседки. — Наши-то, русские, дурачьё, а этот с самого детства знает, кому улыбнуться, а кому протянуть ручку.
— Может, конечно, и так, но только Надежда никогда глаз не прячет, уселась впереди и плечи расправила. А мы с тобой каждое собрание не знаем, куда со стыда деться и в какой угол забиться. Пусть её Сёмка и не отличник, но троек у него отродясь не было, а у моего не то что тройки, двойки в четверти вырисовываются.
— Зато твой Витька без двойного дна.
— А толку-то что? — не удержавшись, мать Виктора перешла с шёпота на голос.
— А то, что в тихом омуте черти водятся!
— Я попрошу потише на последних партах! — учительница постучала карандашом по столу и бросила укоризненный взгляд на громко перешёптывающуюся парочку.
— Ты чего к Надькиному парню прицепилась? Завидуешь? — не отрывая глаз от доски, тихо произнесла мать Виктора.
— Да чему завидовать? Мой Димка ничуть не хуже, просто этот наловчился мозолить глаза учителям, а мой — нет.
— Почему — нет, и твой умеет, — хмыкнула мать Виктора. — Только у твоего дневник весь красный от замечаний, а у Тополя — от благодарностей.
— Значит, с вопросом о проездных на январь мы с вами решили. Те, кому нужны билеты, должны сдать деньги до двадцать четвёртого декабря, — учительница взяла в руки распухший от вложенных бумажек ежедневник и поставила напротив очередной записи галочку. — Теперь давайте поговорим вот о чём. В ближайшую субботу — она последняя в этой учебной четверти — во всех классах будут проводиться генеральные уборки. Мне бы хотелось узнать, кто из родителей сможет принять участие в этом мероприятии?
Моментально все разговоры в кабинете стихли, и три десятка взрослых дяденек и тётенек, сидящих парами, как по команде опустили глаза и начали внимательно изучать послания своих дорогих наследников на крышках ученических столов.
— Насколько я понимаю, добровольцев нет? — обводя взглядом вмиг присмиревших родителей, учительница невольно усмехнулась и подумала о том, что большие мальчики и девочки нисколько не отличаются от своих детей, буквально прилипающих к партам в тот момент, когда ручка учителя начинает медленно ползти по списку фамилий, выискивая подходящую жертву.
— Елена Владимировна! К сожалению, в эту субботу я работаю и не смогу подойти в школу, но я не отказываюсь помочь классу, — голос Надежды прозвучал среди повисшей тишины необычайно громко и уверенно. — Давайте я возьму шторы и постираю их, только скажите, к которому числу их нужно вернуть.
— Вот это здорово, спасибо вам огромное, Надежда Фёдоровна! — обрадовалась классная руководительница. — Как хорошо, что у меня всегда есть человек, на которого я могу положиться! Тогда завтра я попрошу их снять и пришлю вам вместе с Семёном, хорошо? Или ему будет тяжело нести?
— Что вы, Елена Викторовна, он же мужчина, пусть привыкает! — гордо произнесла Надежда.
— О, видела? Опять она самая хорошая! Это любой бы сумел: запихнул линялые тряпки в машину — и всё, в ус не дуй, — едва слышно прошептала мать Димы. — А нас сейчас припашут или линолеум содой оттирать, или шкафы двигать. Умеет же Надька вовремя подсуетиться!
— А тебе кто мешал?
— Да я рта не успела раскрыть.
— В следующий раз пошустрее раскрывай, — прыснула в кулак мать Виктора.
— Желающих помочь больше нет? — учительница обвела взглядом застывшие фигуры родителей, мечтающих чудом проскочить сквозь сети обязательной трудовой повинности. — Очень жаль, что вы такие неактивные. Если бы все были, как Надежда Фёдоровна с Семёном, стало бы значительно легче. Ну что ж, тогда мне самой придётся назначать тех, кто будет обязан подойти в школу в эту субботу к двум часам дня…
Собрание растянулось почти на два часа, и когда родители стали небольшими группками выходить из кабинета в коридор, на круглом циферблате, висящем над дверью, стрелки показывали четверть девятого. На улице уже совсем стемнело, и в мутных чернилах огромных школьных окон отражался только яркий электрический свет ламп под потолком да белёсые проёмы немых дверей, запертых школьным сторожем на ночь.
— Ну что, получила очередную порцию тихой радости? — Наталья достала из сумки вязаный шарф и принялась наматывать его на шею. — Обидно, слов нет: мы с Олегом и Димкой собирались двадцать девятого поехать к моим, поздравить с наступающим, а теперь я даже не знаю, удастся или нет. Во сколько ещё это всё закончится, неизвестно. Если к двум приходить, часа два-три проволынят, да плюс час пойти домой покушать и переодеться. А какой смысл выезжать в шесть вечера?
— Отказалась бы, сказала, что не можешь, — Ира открыла молнию сумки и стала искать на дне перчатки.
— Ну да, попробуй откажись после Надькиного выступления! — Наталья обречённо махнула рукой.
— Да, Надюха молодец, нечего сказать, голова у неё соображает, как всё политбюро, вместе взятое. Да где же они есть-то? — Ира остановилась у подоконника, поставила на него сумку и принялась перетряхивать её содержимое более основательно. — Вроде бы здесь были. Наташ, ты моих перчаток случайно не видела? Может, я их на парте оставила?
— Нет, не видела, — Наталья отрицательно качнула головой. — Ой, подожди, это такие тёмно-коричневые на меху, и ещё вот здесь две пуговки, да? — она указала пальцем на запястье.

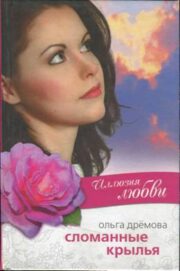
"Иллюзия любви. Сломанные крылья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Иллюзия любви. Сломанные крылья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Иллюзия любви. Сломанные крылья" друзьям в соцсетях.