О моем актерском даровании он скромно умолчал. И действительно, ощущение профессии пришло ко мне гораздо позже, а именно, на многочисленных съемочных площадках, во время работы с разными режиссерами, а также в тандеме с опытными, по-настоящему владеющими профессией актерами.
Тогда же Вадим покорил меня своей почти болезненной увлеченностью театром, брызжущей через край энергией, позволявшей ему полностью выкладываться на многочасовых репетициях…
Есть такие девочки (мальчики) необыкновенные, вроде бы ничего себе, глазки светятся, горят, искрятся талантом. То есть талант выплескивается через край, не удержать. Актеры, одним словом. Гении.
По большому счету, они, никогда не принимающие никакого личностного участия, как-то умудряются затянуть и вас в свой собственный театр. И вы, и все, кто поведется на эти глубокие дымчатые взгляды, тихие интонации, вкрадчивые улыбки, все будут инфицированы подобием любви и страстного интереса. Недаром раньше нашу (их) братию на кладбищах не хоронили, только за пределами. Скоморохи покоились отдельно, это факт.
Такие мальчики имеют свойство легонько залазить в душу, без всякой цели, так, интереса ради. Окружающие – партнеры, случайные знакомые, зрители – сами охотно дают им собственную жизнь напрокат, сами впускают их туда. Мальчикам интересно, но не глубинные переживания их волнуют, это, извините, нет, им интересен ваш ход мыслей, реплики, манера смеяться, реагировать и так далее.
В общем, демонические это все штучки, темные актерские делишки. Украсть, снять кальку со случайного встречного, который мимолетом и навсегда расположился и расслабился, выболтал за какой-то час все секреты, всю свою нехитрую жизнь, доверился и тут же был оставлен за ненадобностью.
Все это, однако, я поняла много позже. А тогда…
Он предложил проводить меня. На улице было темно, мелкие снежинки кололи лицо и забивались за воротник пальто. Мы, смеясь, забежали в какую-то подворотню и целовались, спрятавшись за выступом каменной стены. Я шерстяной варежкой стряхивала снег с его волос.
Потом поехали в общежитие, зашли в одну из комнат, где сидели все наши однокурсники. Кто-то играл на гитаре, кто-то пел, и все пили шампанское из липких пластиковых стаканчиков. Мы тоже выпили, и у меня защипало в носу от пузырьков и голова закружилась.
Он потянул меня куда-то, и я пошла за ним, опьяненная не столько дешевым кислым шампанским, сколько ощущением новой жизни, которая накрывала меня неумолимой снежной лавиной.
…Он был слегка пьян… Дыхание ровное, тихое, как у младенца. Где это видано, чтобы взрослый мальчик (Вадим был старше меня лет на шесть-семь) ночью походил на уснувшего ребенка? А вот он, Вадим, отличался потрясающей особенностью: спал так тихо, что казалось, я в комнате совсем одна. Хотелось дотронуться до его теплого тела, чтобы убедиться – он здесь, со мной.
Вадим был очень красив спящим, умиротворенный. Уверена, нам часто виделись одинаковые сны… Я смотрела на него, и щемящая нежность захлестывала меня: «Слушай, ты, спящий и ничего не понимающий человеческий индивид, я, оказывается, привыкла к тебе!»
Уже несколько ночей я провела здесь, в обшарпанной комнате вгиковской общаги, с энтузиазмом участвуя во всей ее коммунальной жизни: коллективной варке пельменей, удалых пьянках до рассвета, которые вполне могли закончиться дракой, вспыхнувшей из-за разногласий в толковании Станиславского, каких-то слухах, сплетнях, скоротечных романах, приездах родителей с обязательными домашними гостинцами. Все ютились в комнатах по двое и трое, Вадим же жил почему-то без соседей, не считая, правда, огромных жирных тараканов, с которыми все обитатели Бориса Галушкина давно свыклись. Уже несколько ночей я боролась с дремотой и наблюдала за ним. Ночью он становился понятным и беззащитным до слез. Когда он улыбался, сумрачные складки на лбу разглаживались, и лицо преображалось.
Конечно, на самом деле он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Но я-то уже стала настоящим мастером по части фантасмагорий.
– Я люблю тебя, – говорила я ему.
– Любви нет, есть страсть, – возражал он, иронично улыбаясь. – Нормальное желание обладать телом.
И пускался в пространные объяснения, что, когда страсть проходит, на горизонте возникают другие и следующие, круговорот тел в природе… Я, по его словам, всего лишь давала своей страсти заштампованное название «Я люблю тебя!». Я не спорила. Мне было интересно наблюдать за этим жестоким ребенком, любопытно было, куда заведет его цинизм.
Вадим мог часами рассуждать об искусстве, об истинном предназначении актера, о том, что гений несет ответственность только перед вечностью. Он говорил горячо, жестикулировал и иногда оглядывал себя в зеркале, запоминая, наверное, удачные жесты для будущих ролей.
Наш недолгий роман обошелся без ревности и фальши. Мы вместе пережили ту первую вгиковскую зиму, спрятались от метелей в пустой комнате общежития под тонким казенным одеялом.
Весной мы расстались: однажды он просто выставил меня из комнаты, с мефистофельской ухмылочкой заявив, что ничего мне не обещал и объяснять ничего не намерен. Тогда же произошла история с двумя нашими преподавательницами, влюбившимися в Вадима со всей силой нерастраченной страсти. Две немолодые, не в меру восторженные педагогини не смогли устоять перед его томными голубыми глазами. Одна просила его остаться после занятий, помочь ей перенести какие-то книги, в то время как другая вызывала читать текст из учебника и млела от его голоса до такой степени, что, казалось, сейчас она в сладкой истоме сползет со стула прямо на заплеванный пол. Вадим жестоко вышучивал за глаза несчастных теток:
– Видела, она даже шарфик какой-то себе на морщинистую шею привязала. Старая швабра!
Впрочем, когда «старая швабра» предложила отправить его за ее деньги на несколько месяцев во французскую театральную школу, он охотно согласился. Так же, как согласился впоследствии взять у другой влюбленной профессорши деньги на постановку собственного спектакля.
Преподавательницы, конечно, недолго оставались в неведении относительно своего соперничества. Кто-то что-то сболтнул на кафедре, кто-то упомянул фамилию Вадима в деканате, и в результате две стареющие жеманницы подрались. Подрались прямо в институте, по-бабьи, с взаимными оскорблениями и тасканием за волосы. Вадим встретил сообщение о разыгравшихся из-за него страстях с сардонической улыбкой.
Я в это время снималась уже в своем первом «профессиональном кино», и с Вадимом наши пути разошлись. Однако я все еще часто думала о потерявшемся мальчике и, когда он неожиданно пригласил меня прийти к нему на спектакль, согласилась.
Я сидела в темном зрительном зале и смотрела на сцену, где Вадим играл «Дядю Ваню». На лицах всех присутствующих было выражение радостной эйфории, мне же хотелось закричать, взорвать эту благоговейную тишину. Я смотрела и не понимала, что могло привлечь меня в этом отлакированном создании.
«Реальность скучна, – думала я. – Ее просто необходимо украшать иллюзиями».
До встречи с Вадимом я свои иллюзии бережно хранила и остерегалась всякого, кто мог принести им вред. А теперь случилось вот что – два декоративных персонажа не смогли друг друга понять, замучили подозрениями в реализме восприятия. Странно! Ведь наши мечты вполне могли друг друга дополнить, воссоздать некий сказочный мир, в котором нам обоим было бы хорошо. Но нет! Они разбились друг о друга, не выдержали столкновения.
Страсть, говорил он. Страсть, а не любовь. Но теперь… Вадим был даже физически мне неприятен: ужимки, интонации, жесты. Значит, вопреки обвинению, которое он бросил мне, у меня к нему была не страсть.
Кажется, я действительно поверила в те дни, что люблю его. И разыгралась не на шутку. Хотелось рыдать от восторга, от упоения собственным арлекинством.
«А ведь кому-нибудь однажды очень не повезет, – поняла я, – по-настоящему в тебе завязнуть. Кому-то достанется всерьез. Ведь все окружающие для тебя всего лишь статисты, на фоне которых ты играешь свою главную роль».
И вот что действительно было в нем привлекательно – его презрение к людям, позерство, высокопарность: «Запомни мое лицо и уходи!» Мне хотелось его изучить…
Я – коллекционер иллюзий – в свое время гадала, что может таиться за его заносчивостью и непомерными амбициями. Может, он и вправду гений? Мне суждено было остановиться на минуту и содрать мишуру с его образа, вдоволь насладиться его неприкаянно-расчетливым существом.
Но разве имела я право судить подобного себе? Актера с его актерской копилкой? Его переживания, страсти, поражения – все в запас, все пригодится.
Я поднялась и вышла из зала. «Оставайся здесь, потерявшийся мальчик, свободный, чужой, ничей. Со своей замороженной душой».
Сейчас, когда я вспоминаю тогдашние мои душераздирающие драмы и трагедии, попивая дрянной «Нескафе» в закутке гримвагена, все это кажется мне выморочным, нелепым, смешным. Гормональные бури, щедро приправленные юношеским максимализмом, казавшиеся шекспировскими страстями. Если же говорить без прикрас, жизнь моя, киношно-студенческая, кипела и бурлила, временами сильно давая мне по затылку. По большому счету, такая жизнь была у всех девиц, начинающих актрисок тире бывших моделей того времени дикого капитализма, и если быть совсем уже точной, проходила она под вывеской «Блеск и нищета куртизанок».
Мы были юны, озлобленны и нищенствовали. Чувствовали себя волчицами, на которых расставили красные флажки. Очень боялись прогадать. Продешевить. Старались продать единственное свое богатство – красоту и юность – как можно дороже. Все мы такие были. Но далеко не у всех получалось.
Порхали по бесконечным тусовкам, сопровождавшим каждое мало-мальски культурное событие. О эти банкеты, где кучкуются старые добрые друзья и товарищи, с недовольным видом обсуждая неизменное еще с советских времен меню. Обретаются в едкой смеси жалости, снисхождения к менее успешным и льстивого, проперченного безмолвной завистью подражания более удачливым. Здесь открываются сердца и после рюмки-другой срываются маски, обнажаются все пороки, и бог знает, что еще может вылезти наружу. И именно на подобных сборищах понимаешь, насколько неисповедимы пути господни: вот вчерашний обласканный любимчик судьбы куксится в сторонке, забытый, задвинутый на антресоль; бывшая красавица – мастерица преображения прильнула все еще стройным телом к обрюзгшему мачо, устремив потухший взгляд на вход… Она пребывает в незатемненной надежде, что дверь распахнется и в зал войдет некто из снов. Войдет и мягко уведет за собой эту покинутую и не любимую никем душу. Уведет в страну, где она была молода, где воздух искрился от надежд и свобода наполняла каждое движение… Нет ничего ужаснее видеть, как стареют признанные красавицы, как время тенями скользит по их прекрасным лицам, оставляя глубокие борозды и морщины…

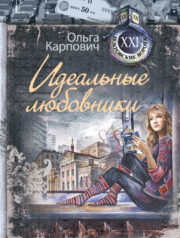
"Идеальные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Идеальные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Идеальные любовники" друзьям в соцсетях.