Я очень любила тогда то, что Он собой представлял. Любила до такой степени, что готова была целыми днями возиться с его приемным сыном, вытащенным из затерянного в иркутских лесах Дома малютки, который то и дело принимался мычать, как теленок, потерявший мать-корову. Это было типично детдомовское дитя: увидев бутылку новомодной тогда газировки, выпивал ее залпом, так, на всякий случай, чтобы не чувствовать голода. Тогда я сама была как дитя привязана к матери моего любимого, шлялась с ней по магазинам, неумело помогала по хозяйству, наивная душа.
Мне казалось, что так нужно и так правильно. И что меня за мое исключительное самопожертвование обязательно полюбят. Вернее, во мне самой было столько любви и чистосердечного желания ею поделиться, что я бросалась исполнять любую прихоть, любой каприз, искренне считая, что меня, такую хорошую и преданную, оценят. Я старательно не замечала, как ему удобно пользоваться моими услугами и в то же время при любом удобном случае высмеивать мои благородные порывы.
В оправдание себе могу сказать, что на момент нашей судьбоносной встречи я была совсем Лолита, к тому же влюблена как дикая кошка, которую пригрели добрые люди. До этого я в основном видела тупые обкуренные рожи своих сверстников (тогда как раз начало потихоньку утилизироваться поколение, выросшее под лозунгом «Мир-Дружба-Жвачка») да кучу учебников, с которыми я водила искреннюю дружбу. С родными-то я дружбы не водила сызмальства, а именно, после смерти обожаемого деда.
Как же я могла не полюбить этого веселого и на тот момент крайне талантливого деспота? Конечно, я полюбила его искренне и вместе с ним весь мир, который он мне приоткрыл. И надсадно страдала от недопонятости и невозможности моей к нему любви. От первого в своей жизни одиночества. Тогда мне еще невдомек было, что в любви человек всегда одинок. Что одиночество – это заразная и очень привязчивая болезнь, подцепив которую единожды, ты почти наверняка обречен страдать ею хронически, таскать на себе как отметину, без надежды избавиться. Нет, тогда я этого еще не знала.
Шло время, дни сменяли друг друга, яркие, как цветные стекла в калейдоскопе. Со временем Он начал тоже нуждаться во мне. Иногда все окружающее нас уходило куда-то далеко, и мы оставались вдвоем.
Однажды перед съемкой для какой-то передачи мы почти час провели, выбирая удачный ракурс. Он усаживался то на диван, то на кресло, меня просил встать напротив и оценить, с какой точки он лучше выглядит.
– Ты везде хорошо выглядишь, – убеждала его я.
– Ты мне льстишь. Я же просил серьезно ответить! – Он почти кричал.
– Ну здесь! – Я указала на низкое кресло.
– Действительно, тут свет лучше падает, – задумчиво протянул Он, потом настороженно спросил: – Я тут моложе?
Прошло несколько месяцев. А потом я познакомилась с Виталиком. Он должен был участвовать в предстоящем показе новой коллекции. Необыкновенно красивый, почти Есенин – пшеничного цвета кудри, голубые глаза, тонкая фигура. Юный полубог семнадцати лет.
Он был новенький у нас и ничего не знал обо мне. Поэтому, наверное, однажды после примерки пригласил в кафе. Я согласилась…
Мы пили какао, наблюдали за посетителями, толкали друг друга локтями и безудержно смеялись. Мне было удивительно легко с Виталиком. Я уже и забыла, что так бывает…
В день показа я приехала к Нему рано утром. Нужно было за всем проследить.
Дом на Тверской, высокий, каменный, весь фасад в мемориальных досках, как будто при строительстве материала не хватило. А со двора сразу видно, в каких квартирах еще остались прежние жильцы (облупленные рамы, тусклые занавески, тряпье, развешанное на балконе), а где уже оборудовано элитное жилье (стеклопакеты, кондиционеры и авторский дизайн квартир).
На лифте еще старой конструкции, с открывающейся дверью, но уже отремонтированном по новой моде, украшенном зеркалами и электронным табло, я поднялась к Нему домой. Он вышел из спальни, весь помятый, взлохмаченный, неумытый. Прошлепал босиком в кухню и вернулся, жуя холодную котлету. Спросил, как лучше уложить волосы – как на праздновании дня рождения или как на показе в «Метрополе». Я что-то ответила, не помню.
Телефон разрывался, я отвечала на звонки: что-то не было готово, часть платьев не туда отвезли. И тут из спальни, смущаясь и трогательно кутаясь в Его халат, выплыл Виталик.
И я вдруг закричала, заорала в телефон:
– Что значит «не готово»? Вы в своем уме? Как вы можете!
Я швырнула трубку и услышала, как Он гаркнул из кабинета:
– Эй, накапайте ей валерьянки! Мне только истерики сегодня не хватало!
Мое открытие тогда потрясло меня, перевернуло душу. Я никак не могла поверить, наивная, что мой недоступный неземной принц оказался пошлым любителем смазливых мальчиков-моделей. Моя прекрасная девически-розовая любовь сделалась вдруг грязным фарсом, сальным анекдотом. Я мучилась, наблюдая за Ним исподтишка, все пытаясь найти опровержение. И, конечно, не находила.
Но все имеет свой конец. Наша история закончилась премерзкой осенней ночью. Был очередной показ, потом банкет. Я очень устала за этот день, а может быть, за все эти изматывающие месяцы, и сидела теперь в каком-то оцепенении. Он стоял у окна с высокой девушкой, очевидной анорексичкой (это явление тогда только набирало свои обороты), дочерью известного бизнесмена, заглядывал ей в глаза и убирал с ее лица волосы своей красивой рукой. Я знала, что он специально встал так, чтобы прямой свет не падал на лицо: это позволяло ему выглядеть в глазах собеседницы юным неземным созданием, бестелесным сказочным эльфом с безупречно гладкой кожей. Я знала также, что эта девушка очень нужна ему, а точнее, нужны деньги ее состоятельного отца. В последние месяцы он не раз говорил, что ему все надоело, пора подыскать богатую жену и уйти на покой. Я думала, что он шутит, эпатирует публику. Но вот теперь он стоял рядом с ней, совсем юной, почти моей ровесницей, что-то говорил, не отрывая взгляда от платиновой пантеры на ее цыплячьей шее… О, он наверняка уже представлял себе заголовки газет: «Свадьба месяца», «Самая красивая пара столицы».
«Клоун! – вдруг поняла я. – Стареющий клоун, вылепивший себя из чужих гримас, жестов и фраз. Ненастоящий… почти что неживой…»
Я подошла к нему попрощаться. Мы пожали друг другу руки.
– Ты все еще здесь? Дай я тебя поцелую в щечку. Созвонимся, ладно? – И он отвернулся.
И тогда я поняла – все, продолжения не будет, кончено.
Я бежала по Красной площади, стук каблуков отдавался в висках. Холодные октябрьские звезды подмигивали мне с неба. Медный предрассветный сумрак провожал меня. Город молодости… жестокий город. И вдруг я всей кожей почувствовала, как мгла рассеивается и становится легко, как в детстве. Я ушла.
…Сейчас я уверена, что он все же женился бы на мне, я бы вынудила его это сделать своей непробиваемой безропотностью и обожанием. Впрочем, он и до сих пор один из самых любимых мною литературных уже теперь персонажей, и говорить о нем плохо не хотелось бы.
Другое дело, что я вовсе не желаю встретиться с ним и поинтересоваться: а что ты, собственно, почувствовал, когда я тебя оставила, такого всесильного и блистательного, не дав тебе возможности превратить себя в твою убогую тень? Как ты себя ощущал, о сиятельный Сергей, когда тебя оставила 18-летняя соплячка, в любви и верности которой ты был настолько уверен, что не озаботился даже тем, как она среди бандитской ночи середины 90-х доберется домой, не имея ни рубля на такси? Как ты вообще стал жить без меня, когда я собственными руками изменила проклевывавшуюся и понятную нашу общую судьбу?
Разумеется, все эти слезливые дела забылись. И уже через пару лет я стремглав бежала по верхнему этажу «Атриума», спинным мозгом чувствуя его взгляд и искреннее желание поговорить по душам…
Переболев сумасшедшей юношеской привязанностью, с модельным бизнесом я тогда завязала и, пребывая в раздумьях, куда направить свои стопы, почти случайно выбрала Всероссийский институт кинематографии. Вероятно, это решение пришло потому, что, уже попробовав свои силы на подиуме и перед фотокамерами, я поняла, что бесконечно примерять на себя чужие образы, проживать за день множество других жизней получается у меня лучше всего. К тому же, отравленная атмосферой больших светских тусовок, мельтешением вокруг творческих личностей самых разных мастей и направлений, я подсела на это, как героиновый наркоман, и уже не могла без этого жить.
ВГИК
Поступив во ВГИК, я явилась первого сентября на занятия, счастливая оттого, что вступаю в Храм Искусства, а еще больше оттого, что мне удалось без блата поступить в такое заведение, и значит, я перебралась на более высокую ступень собственной социальной значимости. За время, прошедшее после вступительных экзаменов, я начиталась мемуаров киношных мэтров и представление об учебном заведении, в которое вступаю, имела весьма романтическое. Но уже через несколько недель поняла, что здешняя закулисная жизнь мало чем отличалась от знакомого мне мира высокой моды.
К примеру, наш мастер, прекрасный актер, талантливейший человек, тем не менее редко находил повод заглянуть к нам, первокурсникам, и, будучи разносторонней личностью, не мог дать нам ничего, кроме своих бесконечных историй об одной Великой, которая некогда подарила ему машину, которая, с которой… В общем, с тех пор я не люблю ее стихов.
Мой первый показ самостоятельных отрывков… Не помню, чтобы я боялась публики, зажималась. Но не было и вдохновения. Оно было на генеральной репетиции, а на показе случился «синдром второго спектакля».
После экзамена ко мне подошел один из моих однокурсников, Вадим. Высокий мальчик с тонкими чертами лица и взглядом преподобного де Брикассара из «Поющих в терновнике», устремленным далеко вперед.
– Ты была лучше всех, – сказал он мне. – Не обращай внимания на остальных. Все было срежессировано лучше некуда.

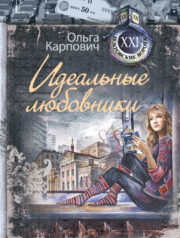
"Идеальные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Идеальные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Идеальные любовники" друзьям в соцсетях.