Я едва успела произнести «Привет!», как в то же мгновение оказалась прижата к его мускулистой груди, ощутила его дыхание на моей щеке, его губы на моих губах.
– Лихо, – выдохнула я, пытаясь высвободиться. – Ты всех старых знакомых так встречаешь?
Мальчик же вцепился в меня, словно боялся, что я ускользну, как ночное видение, гладил волосы, плечи и твердил:
– Ты вернулась! Вернулась!
Дени ухаживал за мной с дешевым провинциальным шиком, действовал по понятиям. Эти приемы еще с юности были мне хорошо знакомы: влетающий во двор лоснящийся в лучах солнца «Мерседес», немыслимые золотые побрякушки, которые я стеснялась носить, – слишком уж дешево они выглядели.
– Я женюсь на тебе! Ты выйдешь за меня, выйдешь? – чуть ли не каждый день допытывался он.
– Твой папа не разрешит, – отшучивалась я. – К тому же я никогда не приму ислам.
Кто знает, может быть, я и совершила бы этот немыслимый поступок, привлеченная его юностью, пылкостью и беззаветной преданностью. Вероятно, нам удалось бы поколебать патриархальные устои его строгой семьи, если бы… Если бы Дени сам не познакомил меня с Исламом.
Я навсегда запомнила этот день: мягкий полусвет раннего зимнего вечера, негромкая музыка и какое-то смутное, с самого утра томившее меня ощущение близкой беды. И когда Дени окликнул меня, сидевшую с книжкой на диване: «Олеся, познакомься, это Ислам!» – я будто знала, что будет дальше, еще раньше, чем обернулась, чем встретилась глазами с ледяным голубым взглядом.
Он был красив давно забытой в нашей городской жизни хищной природной красотой. Льдистые глаза, оттененные иссиня-черными прямыми ресницами, четкий горбоносый профиль, ранняя седина, рассыпанная в жестких темных волосах, неожиданно нежный рот, ловкое поджарое тело, тело дикого зверя, немного скованно двигавшегося в тесном пространстве квартиры…
Я только один раз взглянула на него – и умерла. Все полетело к чертям: все планы и доводы рассудка, все мои полусмешливые обещания Дени, все-все. Я с первой секунды поняла, что, прикажи он, и я пойду за ним, не спрашивая ни о чем и ни о чем не жалея.
Коротко кивнув мне, Ислам двинулся дальше по коридору. Я же так и осталась сидеть, пригвожденная этим его мгновенным молчаливым заклятьем. Затем поднялась.
– Ты куда? – ревниво вскинулся Дени.
Он тоже, должно быть, почувствовал… Схватил меня за руку, попытался удержать. Я с силой расцепила его пальцы:
– Мне надо размяться. Пожалуйста, не ходи за мной!
В кухне висел сладковатый удушливый дым. Профиль Ислама на фоне окна, прижатая к губам маленькая трубка для курения гашиша. Черты его лица стали мягче, глаза глубже запали. Это уже не живой мужчина был, а некий дух, древнее языческое божество.
– Можно мне? – Я потянулась к трубке.
Отведя мою руку, он вложил тонкий деревянный мундштук мне в рот.
Голова закружилась… Я не помню, произнес ли он: «Ты моя женщина, я тебя выбрал», или это я ему сказала: «Ты теперь мой. Я тебя выбрала», уже не помню. Только в тот вечер мы, никому ничего не объясняя, сбежали вместе, чтобы вместе и оставаться теперь навсегда.
Я давно не была впечатлительной девчонкой, напротив, о моем любовном опыте можно написать десяток томов, но такого, как этой ночью, я не испытывала никогда: его чуткие пальцы, словно знавшие каждый мой изгиб, каждую впадинку; тяжесть его сильного горячего тела, легко становящегося гибким и невесомым; его горчащая, словно тоскующая нежность, будто именно меня, злоязыкую, несговорчивую и вечно хохочущую, он всегда искал и теперь, обретя, боится, что судьба отпустит нам слишком мало времени.
Мне казалось, я знаю его всю жизнь, и все, что я должна была узнать о нем позже, не имело никакого значения. Ему 37, у него двое детей-подростков, он прошел войну и в Москве находится почти нелегально, хотя давно амнистирован российским правительством.
Впрочем, все это меня мало волновало.
Описывать подробно нашу совместную жизнь долго да и бессмысленно: вереница расплывчатых дней, жесткость его щетины под моими пальцами, запах гашиша, чуть горьковатый вкус его губ. Мы будто перенеслись в мир его бесконечных затейливых баек, рассказывать которые он пускался, выкурив очередную трубку. Перед моими глазами проплывали освещенные закатным солнцем багряные горные хребты, темные быстрые всадники, бесшумно уносящиеся к горизонту, отдаленный глухой грохот разрывов. Я постоянно пребывала в каком-то терпком полусне, словно вместе с Исламом попала внутрь волшебного фонаря, бесконечно зажигающего для нас плоские раскрашенные картинки.
Отправившись как-то ночью гулять – такая нам вдруг пришла фантазия, – мы забрели в парк. Усыпанные снегом елки стояли как заколдованные. Кружевные ветки деревьев тянулись к нам. Я хотела сорвать льдисто-красную рябиновую гроздь, но лишь обрушила лавину снега себе на голову. Ислам со смехом принялся стряхивать снежинки с моих волос и вдруг, поддавшись порыву, с силой прижал меня к себе, ткнулся в лицо холодными губами.
– Я люблю тебя, – еле расслышала я.
– Что?
Он не ответил. Лицо его исказилось, губы болезненно сжались, в глазах же сквозила обреченная нежность.
– Что с тобой? – Я хотела дотронуться до его лица.
Он отстранился и быстро пошел вперед, бросив на ходу:
– Пошли, я замерз. Ну и холод в этой вашей Москве.
Просыпаясь по утрам, я лежала, боясь пошевелиться, и рассматривала его горбоносый профиль. Я смотрела на него, и радость наполняла меня – радость бытия, любви, радость отдавать, не ожидая ничего взамен.
Ислам просыпался. В его голубых глазах преломлялся солнечный луч. Он проводил ладонью по моей щеке и говорил:
– Тебе идет утро…
Однако стоило нам оказаться на людях, как весь сладкий дурман рассеивался. Ислам делался далеким, жестким, закрытым для меня.
– Не бери меня за руку, – одергивал он меня при всех, смерив холодным взглядом бледно-голубых глаз.
Или:
– Сбегай вниз, подгони машину. Да захвати пива по дороге.
Я ершилась, конечно:
– Да кем ты себя возомнил, принц чеченский? Вали к себе на родину, пусть тебе местные девчонки пиво подают да глаз поднять не смеют.
Он вторил мне:
– Как ты вела себя сегодня вечером? Опять влезла в мужской разговор, перебивала, хохотала… И это платье! Я велел тебе не надевать его. Приличная женщина никогда не наденет такое! Ты выглядишь как русская блядь!
Меня выводил из себя его мобильник, постоянно взрывавшийся звонками. Из трубки доносился сердитый женский голос, вещающий что-то на непонятном языке. Лицо Ислама становилось непроницаемым, он уединялся в ванной. Я же барабанила в дверь.
– Кто это звонил?
– Моя мать.
– Опять мать? Она уже звонила тебе вчера. Ей что, заняться больше нечем?
– Знай свое место, моя мать – это святое. Только попробуй еще что-нибудь о ней сказать.
Мы бешено ссорились, до взаимных проклятий. А потом обязательно страстно мирились. Наверное, было все-таки между нами что-то, помимо животной тяги друг к другу, какая-то трагическая предопределенность судьбы.
Мы не говорили о будущем, не планировали ничего. Было только здесь и сейчас, я и он. До нас доходили, конечно, отголоски глухого недовольства обосновавшейся в Москве чеченской братии. Как же, ведь я, подлая, обещалась Дени, а потом крутанула хвостом и всю эту дружную компанию малолетних робингудов кинула. Впрочем, я полагала, что богатый и строгий папаша моего недолгого жениха только обрадовался, что я исчезла с горизонта и перед ним не маячит больше ужасная перспектива заиметь иноверную великовозрастную и – о ужас! – недевственную невестку. Ислам как-то со смехом сообщил, что Дени в запале грозился даже его убить…
Всегда трудно определить момент, когда отношения достигают своего пика и все начинает разваливаться, расшатываться, катиться к черту. Когда ссоры происходят все чаще и злее, а примирения уже не являют собой порывов самоотречения и прощения.
Как так получилось, что в моей однокомнатной квартире прочно обосновался шустрый быстроглазый мальчишка лет шестнадцати, ни бельмеса не понимавший по-русски? Ислам сказал, что это его двоюродный племянник, что его нужно пристроить в институт. Я с трудом представляла, как это можно сделать.
– Он что, вечно будет тут жить? – вопрошала я.
– Когда поступит, получит общежитие, – обнадеживал меня заботливый дядюшка. – А пока потерпим.
Увы, терпение никогда не входило в список моих добродетелей. Мальчишка раздражал меня страшно. Целыми днями он таращился в телевизор, включая в основном музыкальные каналы, а завидев Ислама, тут же принимался что-то горячо тараторить по-чеченски. Ислам отвечал коротко и отрывисто, сам же от этих разговоров делался странный, дерганый, злой, и в его обращенном на меня взгляде я все чаще замечала тоскливую безысходность.
Вглядываясь в синие глаза пацаненка, я ломала голову: уж не родного ли сына подселил ко мне Ислам под видом дальнего родственника? И если это так, с кем остался второй его отпрыск? Вероятнее всего, с родной матерью, которая, бедолага, сидит вечерами на крылечке, дожидаясь запропастившегося супруга.
Мальчишку мы поселили в кухне, стелили ему на раскладушке. Ислам при нем отказывался прикасаться ко мне даже пальцем. Это, впрочем, имело некоторые основания. Однажды ночью я пробралась в кухню попить воды в одной коротенькой ночной рубашке, и на меня немедленно уставился любопытный глаз.
Чтобы все-таки предаться плотским радостям, приходилось мотаться по трехкопеечным гостиницам, мыкаться по чужим углам. Деньги, заработанные мною в США, таяли, Ислам же не утруждал себя вливаниями в семейный бюджет. Он не утруждал себя вообще ничем. Он просто находился рядом – и все. Этого, считал он, было вполне достаточно.
В конце концов насморочной ночью в начале апреля нам таки не хватило денег снять номер в самой затрапезной замкадной гостинице, и я, измотанная, осатаневшая, застряла тут же, в заплеванном гостиничном баре, и принялась методично напиваться. Ислам теребил меня, но довольно вяло, а когда выволок-таки на улицу, я, рухнув на мокрую тумбу у обочины шоссе, разразилась потоком брани:

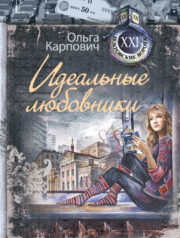
"Идеальные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Идеальные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Идеальные любовники" друзьям в соцсетях.