Неожиданно из стоявшего поодаль «Фиата» вышла Галина. За ее спиной маячила мрачная Катька.
– Я полагаю, это и есть твой симпозиум? – надменно осведомилась жена.
– Что ты здесь делаешь? – опешил Андрей.
– Мы сегодня договаривались все вместе поехать в театр. Впервые за последние пять лет. Но ты, разумеется, запамятовал. Конечно, ты ведь так занят. Тебе не до семьи.
Галина изо всех сил сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. Катерина констатировала:
– Да, папец, ты попал. Так тупо спалиться…
– Замолчи! – резко оборвал ее Андрей.
– Не затыкай ей рот! – взвилась Галя. – Ты хоть помнишь, когда в последний раз с ней разговаривал? Откуда девочке взять уважение к отцу, если ты не уважаешь ни себя, ни нас?
– Андрюша, это твоя жена? – очнулась вдруг от своего фенозепамового забытья Валерия. – Так вот она какая. Ты, – она неожиданно ткнула пальцем в Галину, – подлая циничная тварь! Ты вцепилась в него и давишь своей любовью и преданностью! Ты не даешь ему жить. Дышать! Оставь его в покое, он тебя не любит. Он любит меня!
– Что ты несешь?! – выдохнул Донской.
Скандал бушевал долго. Валерия рыдала и обличала. Галина напирала, гордая в своей поруганной супружеской добродетели. Хмурая Катька отпускала резонерские замечания. Наконец Донскому удалось вызвать для Валерии такси. Жена и дочь уехали сами. Андрей же, вернувшись в кабинет, растянулся на диване. О том, чтобы вернуться сейчас в семейное гнездо, и подумать было страшно.
В своем дневнике Nizа (или Нина, теперь у него почти не было сомнений) писала:
«Он стоял в бледных лучах сентябрьского солнца и улыбался. В обыкновенной одежде – совершенно мужском модном свитере, куртке, ботинках – он казался моложе, чем в своей профессиональной, в которой я привыкла его видеть».
На этом месте сердце Донского вдруг подпрыгнуло, стукнулось о грудную клетку и забилось где-то в горле. Он протянул руку к чашке с остывшим кофе, сделал большой глоток и перевел дыхание. Спину где-то между лопаток будто обожгло, как много лет назад в походе, когда они, студенты, веселясь, кидали друг другу за шиворот горячие картофелины. Он продолжил чтение.
«Вдруг еле заметная мысль мелькнула в моей голове, и остаток ее я все же успела схватить за хвост: когда-нибудь это закончится, как кончаются все отношения, в которых один дружит и нуждается, а другой, в связи с некоторыми обстоятельствами, позволяет с собой дружить и нуждаться. И тогда я останусь совсем одна, не будет больше этого чужого мужчины. Я скажу «конечно» на его «увидимся». И придется мне ехать домой, не разбирая дороги, а дома будут ждать тишина и покой – вечные постояльцы, выгнать которых не представляется возможным.
Уйдет он, растворится в толпе, как и многие другие, имен которых я уже не помню, да и так ли важны их имена… Он успел полностью занять душу, мысли, все существо. Наполнить собой вот такими же ничего не значащими взглядами, полуулыбками, движениями левой руки. Я успела прирасти к мужчине, у которого наверняка есть целая компания жен и детей. Мне стало не хватать общения с ним, а когда его не было – начинало трясти и лихорадить, как лихорадит наркомана в отсутствие дозы. Я попала в зависимость от его доброты, имеющей природную основу, не показную, настоящую, и уже ничего не могла с этим поделать. Я влюбилась в него как-то отстраненно, не плотски, а как именно, и самой неведомо, поскольку протянуть руку и дотронуться до его лица нельзя ни в коем случае – слишком страшно потерять его из-за какого-то нелепого прикосновения…
Когда он вот так стоял, улыбаясь и щурясь на солнце, хотелось смеяться и плакать одновременно, как, видимо, смеялась и плакала Офелия, еще не зная, что ждет ее впереди. Я не боялась быть смешной, страх затаился. Хотелось на миг стать маленькой девочкой, не ведающей печали. Захотелось стать женой и счастливой матерью семейства, чтобы всем вместе стоять возле нашей машины и улыбаться осеннему солнцу.
Лишь на долю секунды я представила себе все это, отчего лицо мое наверняка приняло еще более неприступный вид. Чужой мужчина что-то еще сказал и отвернулся, а я села в машину и почувствовала такое опустошение, как после только что случившейся разлуки с любимым сыном. Увы».
«Да что это со мной? История-то банальнее некуда, доктор и пациентка, – ругал себя Донской. – Чем она лучше обожательниц с форума клиники? – Однако словно какой-то неведомый яд проник вместе с этими записками в его кровь, и он не мог уже не думать о Нине: о ее внимательных и насмешливых черных глазах, о высоких скулах, о тяжелом шелке волос, скользивших по его плечу, когда он нес ее в палату, обо всем ее легком и гибком теле, о выступающих ключицах и нежных маленьких ступнях. – Она поняла уже, что я ее вычислил? Знает, что я это прочту? Может быть, для того и пишет, чтобы я понял и сделал первый шаг?»
Он заметался по кабинету.
Утро только начиналось, больничная парковка постепенно заполнялась автомобилями – вышел из своего массивного джипа Петров, лихо припарковалась у бордюра одна из пациенток.
Андрей в коридоре столкнулся с Пашкой и сразу обратил внимание на необычный для этого «спортсмена-комсомольца» бледный вид.
«Неужели наш передовик производства запил?» – подумал он.
– Ты что-то, брат, плохо выглядишь, – ехидно заметил он, копируя недавние Пашкины интонации. – Кабаки и бабы доведут до цугундера?
Пашка рассеянно взглянул на него и поспешил дальше. Андрей, уже не смеясь, догнал его и схватил за локоть.
– У тебя проблемы какие-то? Может, нужна помощь?
Пашка посмотрел себе под ноги и тихо произнес:
– Помощь не нужна. Все в порядке. Просто я, наверное, разведусь. Вот!
– Ты чего? – опешил Донской.
– Встретил другую женщину, – просто сказал Пашка.
– Встретил другую женщину? – повторил Андрей. – Другую женщину… Разве это причина, чтобы разводиться с женой после пятнадцати лет идеального брака?
– Что ты понимаешь? – взвился анестезиолог. – Это не просто женщина. Это Нина! Нина Гордеева… Ну помнишь, наша пациентка? Она пригласила меня на съемки, и я был вчера на «Мосфильме». И она сказала режиссеру, что я – ее будущий муж. Представляешь? Я и надеяться не мог на такое. Я просто попросил автограф, а она сама меня пригласила и потом сказала это… И тогда я понял… – Пашка зашептал трагически: – Она подала мне сигнал! Понимаешь? Ну не могла же она сказать: «Ты мне нравишься, я хочу за тебя замуж».
Донской с изумлением уставился на друга, пытаясь понять, не шутит ли тот. Но Пашка был, напротив, невероятно серьезен.
– И ты решил развестись с женой? Скорее всего, Гордеева пошутила. Это была шутка, понимаешь? Ну пригласил бы на свидание, если так на нее запал, ну переспал бы с ней… Но Вера-то тут при чем?
– Что ты несешь? – заорал вдруг Пашка и выставил вперед сжатые кулаки. Андрей невольно отшатнулся. – Переспал? Да как ты смеешь?
– О-о-о, брат, – протянул Донской, – тяжелый случай. Ну извини, извини, не ожидал. Все, забудь, проехали…
Он пошел по коридору, чувствуя, как в груди разливается злость.
«Вот, значит, что за игру она задумала. Решила поупражняться в кукловодстве на двух остолопах из клиники «Галатея». Стравить между собой старых приятелей и веселиться, наблюдая за их соперничеством. Довольно, ничего у вас не выйдет, Nizа или Нина, как вас там по-настоящему. Может, Пашка, наивная душа, и попался в ваши сети, но со мной этот номер не пройдет. Да чтоб я еще хоть слово прочитал в этом долбаном дневнике! Не дождетесь!»
Донской едва не налетел на Петрова. Алексей как-то суетливо сунул ему руку:
– А я как раз к тебе. Слышал уже? Полянский подал на тебя в суд. Я предупреждал. Не надо было становиться в позу…
– Черт, Леха, извини, ради бога, – искренне сказал Андрей. – Я надеюсь, это не грозит клинике большими убытками. Мне совсем не хотелось доставить тебе неприятности, но ты же знаешь, я объективно не мог ничего для него сделать…
– Андрюша, ты о чем? Ведь в суд-то подают не на клинику, а на тебя! – Петров развел руками.
– Ты решил свалить все на меня? – напрягся Донской.
– Ты сам решил свалить все на себя, братан! Я несколько раз пытался все замять, а ты строил из себя невесть что. Ты играешь в свои игры, изображаешь Печорина… А мне что прикажешь делать? Эта клиника – дело моей жизни. Здесь все… – он заметался по коридору, стуча кулаком по подоконнику, стенам, деревянным дверям, – все, понимаешь, сделано моим трудом. И я не собираюсь все это терять из-за твоих дешевых кривляний!
Донской смотрел на разбушевавшегося директора и ловил себя на мысли, что больше всего ему сейчас хочется схватить Петрова за плечи и хорошенько встряхнуть.
«Нельзя, – остановил он себя, – соблюдай субординацию, дружище! А то еще и этот на тебя в суд подаст».
Алексей скоро выдохся и сказал устало:
– Я пытался тебе помочь. Ты не захотел. Теперь уж разбирайся сам. Против тебя я ничего не имею, но и вмешиваться не буду. Если они пойдут войной против клиники, мне это слишком дорого встанет. Ты по-прежнему мой друг и коллега. Не держи на меня зла…
– О чем речь? – с чуть заметной иронией проговорил Донской. – Конечно! Друг, товарищ и брат!
Гордеева прибыла в клинику через несколько дней. Пашка ждал ее появления: несколько раз выбегал в холл, выглядывал в окно, в конце концов даже вышел на крыльцо. Здесь его и застал Донской, когда возвращался с обеда.
Андрей хмыкнул и собирался уже пройти мимо, как Пашка вдруг напрягся, вытянулся во весь рост и уставился куда-то. Донской обернулся и увидел, что во двор клиники въезжает серебристая иномарка. Андрей перевел взгляд на Пашку – щеки друга залились краской.
«Значит, все еще не выбросил из головы эту идиотскую затею. Ладно, по крайней мере над собой я издеваться не позволю».
Пашка, не обращая ни на кого внимания, поспешил навстречу Гордеевой. Нина улыбнулась, и он, окрыленный, тут же попытался подхватить ее под локоть.

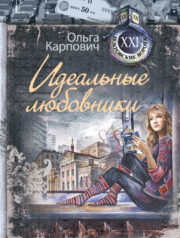
"Идеальные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Идеальные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Идеальные любовники" друзьям в соцсетях.