На этот раз в колонию привезли шестерых пацанов. Нищета и горе обезличивают людей. Словно шесть близнецов стояли перед Морозовым — с серо-голубой кожей, ввалившимися голодными глазами, обросшие и обтрепанные.
— В баню! — коротко скомандовал он и сам захромал впереди небольшой колонны.
В предбаннике уже лежали на лавках шесть комплектов старенького, но чистого белья, колонистская форма. Ботинок не полагалось — до первых заморозков питомцы бегали босиком. Баня натоплена была жарко, у каменки толокся в одном фартуке дежурный колонист.
— Готово, Леонид Андреевич, — доложил он, вытянувшись.
— Хорошо. Раздевайтесь, — кивнул он новеньким.
Дежурный ушел. Мальчишки по очереди раздевались, ныряли в жаркую пасть бани. Только один тихонько сидел на скамейке, отвернувшись в сторону.
— Ну? — коротко обратился к нему Морозов.
Мальчишка обернулся. Он был невероятно худ, огромные глаза смотрели с ужасом.
— Больной, что ли? Ну? Отвечай! — предложил Морозов. — Да не трясись, не съем я тебя!
Пацан совсем вжался в стену. Морозов решил обойтись лаской. Видно, совсем затурканный попался. Или немой, что ли?
— Ну, не дрожи, не бойся, — сказал спокойнее. — Как тебя зовут-то? Фамилию свою знаешь, имя?
— Марта Челобанова, — ответил пацан.
Марта все же вымылась в бане, дождавшись, когда распаренные и вовсе непохожие друг на друга колонисты уйдут в дом. Растерявшийся Морозов привел ее к себе во флигель, напоил спитым чаем с кусочком сахара. Смотрел задумчиво, скреб пятерней затылок.
— Что ж мне с тобой делать? — бормотал озадаченно.
Воспитанниц в колонии не водилось. Как ввести барышню в мальчишеский коллектив, Морозов не представлял. К тому же, по немногословным ответам Марты, выяснилось, что ей зимой исполнится семнадцать, то есть в колонистки она уже и по возрасту не годится. Морозов морщил лоб, размышляя, пока не увидел, что девчонка клюет носом.
— Иди ложись. — Он подтолкнул Марту к высокой никелированной кровати. Девочка влезла на нее и сразу же заснула. Морозов долго сидел у стола, рассматривая спящую пигалицу — на вид ей было лет тринадцать, потом ушел ночевать на сеновал.
Марта Челобанова оказалась потеряшкой. Но ее словам, мать и младшую сестру эвакуировали из Ленинграда, а Марта отстала от них, потерялась в толпе. Двумя месяцами раньше пришло известие о гибели отца. Марта вернулась в квартиру, где жила с семьей, но квартира оказалась закрыта. Дальнейшее память девчонки не сохранила. Где она шаталась эти страшные месяцы, какие добрые люди помогали ей, чем она была сыта — неизвестно. Куда уехали мать и сестра — Марта не знала. По всему было видно, девчонка из интеллигентской семьи.
Три дня Морозов соображал, куда ему девать девчонку. Надо бы взять ее и поехать в Ленинград, авось нашла бы там знакомых или родных… Но ничего такого он не сделал. Девочка осталась жить в колонии — на правах то ли приживалки, то ли экономки. Постепенно втянулась в хозяйство, стала заправлять на кухне, в кладовых. Не могла видеть только, как забивают домашнюю всякую живность. Съеживалась и убегала куда подальше, за луг, к лесу. Однажды, когда резали любимую ее корову, резали только от нужды, от нехватки кормов, Марта убежала так далеко, что ее искали всей колонией и еле отыскали. Впрочем, несмотря на мелкие неурядицы, она чувствовала себя неплохо. За зиму девочка отъелась, повеселела, на впалых щеках появился румянец, в глазах — веселый блеск. На ней ловко сидели простая синяя юбка и белоснежная кофточка, сшитая из куска парашютного шелка. Это стало еще заметней, когда пришла весна и скинула девчонка тяжелую мужскую телогрейку, неловкие валенки сменились на брезентовые легкие тапочки. Она ухитрялась не запачкаться на самых грязных работах, и темно-русые волосы всегда были гладко зачесаны на прямой пробор. Одно только беспокоило Леонида Андреевича — на Марту стали заглядываться колонисты. Поначалу, пока девчонка выглядела полуголодной, запуганной пигалицей, к ней относились покровительственно, с некоторым оттенком презрения, так, как, по мнению Морозова, и следовало обращаться с женским полом. Но едва только на щеках Марты зацвели робкие розы, а парашютный шелк кофточки натянула острая юная грудь, колонисты переменили свое отношение. Грубоватое их внимание смущало Марту и несказанно раздражало Морозова. Впрочем, пацаны держали себя в рамках благопристойности и их внимание еще можно было назвать товарищеским. Но один… Невесть откуда взявшийся пащенок — тощий, со впалой грудью, слабосильный, к физическому труду почти и непригодный, Юрка Рябушинский, — принялся ухаживать за Мартой всерьез. Цветочки собирал и дарил ей, надо же! А в школьной тетрадке, грубо сшитой из дурно разглаженных листов старых газет, нашлись и стишки. Кто-то любезно подложил тетрадку на стол Морозову, тот читал и хмыкал:
Я неожиданно твои глаза увидел.
И вот теперь, поверженный, стою.
Я раньше просто жил и ненавидел.
А вот теперь, наверное, люблю.
В твоем веселом имени весеннем
Я вместе с жаворонком каждый звук пою.
Не плачь над тающим снежком последним.
Я не исчезну. Я тебя люблю.
Мы звали нашу яблоньку «невеста»,
Она росла оврага на краю.
В груди для сердца слишком мало места.
Слов мало. Слово лишь одно: люблю.
— Стишками балуется, жаворонок! — удивлялся он и, отбросив тетрадку, принялся ходить по кабинету взад-вперед. Была еще надежда, что все как-то уляжется, успокоится… Но дальше было еще хуже.
Решили починить фундамент дома. Юрке, как слабосильному, поручили собирать на самодельные носилки старый хлам, куски битых кирпичей, строительный мусор. И надо же было такому случиться, что именно он отыскал в грудах всякого шурум-бурума барскую штучку с прошлых времен — каминные часы, украшенные непонятной бронзовой фигурой. Когда Рябушинский вытащил часы на свет божий и стал обтирать с них грязь и глину, они благодарно, тоненько зазвенели.
— Ну, Ряба, отличился! — высказались колонисты.
Но Ряба отличился еще больше, чем можно предположить. Найденные часы — не только старинные и красивые, но еще и вполне рабочие (ключик торчал у них сзади, фигурный ключик) — не начколу отдал, не в спальне поставил, а подарил Марте! Так прямо, при всех, не стесняясь и подарил. А та, дуреха, и рада — аж заполыхала вся.
В тот же вечер в колонии показывали трофейный фильм про любовь. На вольном воздухе, между двух черемух натянули экран, поставили скамейки для зрителей. Сначала на экране возникла надпись «Фильм взят в качестве трофея», потом замелькали надписи и началась иная жизнь — цветная, иностранная. Странно выглядело это пестрое мелькание в сумеречно-благоухающем, захлебывающемся соловьями саду, и полуоборванные колонисты, погоготав, скоро притихли. Не то притомились за день, не то увлеклись малопонятным, но занимательным зрелищем. Леонид Андреевич, тоже отложивший свои дела и явившийся «последить за порядком», как он сам перед собой оправдывался, тоже был увлечен. Ему приглянулась главная героиня.
Морозов мало знал женщин. Высокий и статный, но рябоватый, некрасивый и к тому же колченогий, он в молодости изведал только продажную или равнодушную любовь в самом грубом ее смысле. Потом было «не до баловства», как он сам себе объяснял. Пока шла война, к нему похаживали деревенские бабенки, стосковавшиеся но мужской ласке и мужскому теплу в охолодевшем доме. Ко многим из них вернулись потом с фронта мужья, и они предпочли забыть свои шашни с начколом. К другим мужья не вернулись, и были среди них те, кто не задумался бы прибрать к рукам холостого мужика. В послевоенные годы и не такие, как Морозов, сходили за завидных женихов, тем более в деревнях. Но тот начал сторониться невест. Деревенские бабенки и девки казались ему слишком уж бойкими, их назойливое внимание не льстило, а досаждало ему. К тому же ходили они неряхами — не перед кем было причепуриваться, да и не в обычае это было, да и не было к тому возможностей. От тяжелой работы в деревне женщины раньше времени прокисали, как перебродившее тесто. Спины прогибались, как у старых кляч, выпячивались животы, тяжелые, натруженные руки висели плетьми вдоль тела, и их ласки были пресными и скучными.
Женщина из трофейного кино понравилась Морозову больше. Такую к работе не приспособишь, да и не для того она вылеплена. Кожа у нее не задубевшая от солнца и ветра, а тоненькая, беленькая, так и видно, как под ней кровушка переливается. Волосы пышной волной лежат над узким лобиком, губы сложены сердечком, глаза огромные, ласковые. Только и дел у нее по хозяйству что разливать чай или, скажем, кофе по тонким расписным чашкам и рукоделие какое-то вышивать. Да и то не вспотела она над этим шитьем. Одни шашни на уме, оно и видно! Только и знает, что обнимается с этим чернявым.
Припомнив шашни, Морозов нахмурился и задумался. Фильма он больше не видел, только воспринимал далеким уголком сознания, и, когда сеанс окончился за полночь, в этом уголке осталось невнятное томление, легкое, но волнующее.
«Теперь не заснуть», — сообразил Леонид Андреевич и решил пройтись по саду, выкурить папиросу и развеять хозяйственными раздумьями эту дурацкую хмарь, что села на душу.
Но уж видно, так день задался — все кувырком. Не вышло у Морозова успокоительно-раздумчивой прогулки по темному саду, не выкурил он папиросы у крылечка. Только вот истома не то что развеялась — в клочья разлетелась. Потому что под калиновым кустом заприметил двоих. Сначала решил, что один из преждевременно созревших воспитанников обжимает какую-нибудь деревенскую Маруську, припозднившуюся после кино, хотел спугнуть молодежь, гаркнув что-нибудь веселое. К подобного рода происшествиям Морозов относился вполне благосклонно, как ни странно. Несколько браков между выросшими колонистами и сельскими девчатами уже были заключены. Но тут явно был другой случай. Не слышалось что-то визгливого смеха, каким обычно отличались деревенские красотки, укоряющих возгласов и возни, необходимых для кокетства в те моменты ухаживания, когда руки парня выкинут слишком уж нескромный фортель, тоже не слышалось. Напротив, парочка сидела почти неподвижно и только девушка словно что-то напевала. Он понял, что это мелодия без слов — из давешнего фильма, понял и то, что помурлыкивает ее Марта. А рядом сидит, конечно, Рябушинский, гаденыш заморенный!

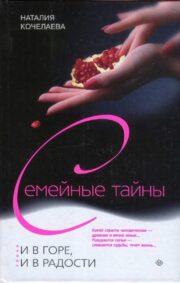
"И в горе, и в радости" отзывы
Отзывы читателей о книге "И в горе, и в радости". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "И в горе, и в радости" друзьям в соцсетях.