С тех пор, как Ренато вытащил мертвое тело Айме, он сбежал сюда, в библиотеку, где четыре поколения Д`Отремон нагромождали ее книгами и бумагами. Он погрузился в старое отцовское кресло, словно животное в пещеру и неподвижно сидел, пытаясь найти себе оправдание в ужасных событиях. На нем была грязная и разорванная одежда, в которой он спускался в глубину расщелины, царапая руки об острые скалы, сделав для мертвой женщины то, чего не сделал бы для живой. Ренато Д`Отремон долгое время сидел с опущенной головой, затем поднял голову. Впервые он искал в глазах старого слуги поддержки и сочувствия, но его долгое молчание только раздражало:
– Чего хочешь, Баутиста? Что хочешь сказать? Если послание матери, скажи, что не нашел меня.
– Я пришел лишь узнать, хочет ли сеньор одеться и принять ванну. Начали приходить люди. В доме была бы толпа, если бы сеньора не сказала, что не хочет никого извещать. Она не хочет, чтобы приходили люди из Сен-Пьера, высказывались и говорили, как и почему произошел несчастный случай.
– Да… Моя мать везде и во всем. Полагаю, я должен быть ей чрезвычайно благодарен, оценить ее любезность, что не упрекнула меня.
– Дела таковы, как их описывают, и я со своей стороны могу успокоить сеньора. Из моего рта не выйдет ни одного недолжного слова. Я верный, как пес, настал час, когда я могу это доказать. Д`Отремон могут рассчитывать на меня и на людей, которых я привел. Сеньор опечален, но мне не хотелось бы опустить того, что бедная Янина тоже верна этому дому, будет верна всегда. Она сказала, что вы увольняете ее окончательно, что она должна убраться.
Напоминание, как искра, разгорелось в мучительном сознании Ренато. Он вспомнил последние слова Янины, жестокую сцену, где уволил ее на прерванной фразе. Возможно, это стало бы разоблачением преступления, о котором знали все, кроме него. С внезапным нетерпением он поднялся, взяв за руку Баутисту:
– Приведи Янину. Найди ее, позови. Быстро, это нужно. Приведи ее, Баутиста!
– Сеньор приказал позвать меня? Я пришла. Сеньор меня уволил и…
Твердая изящная рука Ренато сжала худую руку. Губы сжались в красную линию на чрезвычайно бледном лице, в зелено-голубых глазах вспыхнула искра, которая, исследуя, проникала так, словно угадывала.
– Я распорядился позвать тебя, чтобы ты заговорила, Янина. В первый раз я готов выслушать то, чего никогда не хотел слышать! Скажи, что знаешь о ней без колебаний, тени, сомнений и лжи. Не клевещи, потому что она уже расплатилась жизнью за свои возможные дела, на кону твоя жизнь. Говори, Янина, говори! Ты сказала, что я прощал ей все… все… все…! Что я должен был ей простить?
Почему Янина дрожала? Почему под давлением суровых и изящных пальцев вздрагивала ее плоть, как будто в непередаваемом мучении? Как же она страстно желала быть здесь, рядом с ним, под огнем его глаз! Сколько раз она кусала до крови губы, чтобы не крикнуть Ренато Д`Отремон, что знает об Айме, что видела и слышала собственными глазами и ушами! Но теперь от дрожи подкашивались колени, она прошептала:
– Но… она мертва, сеньор. Я не должна говорить…
– Я приказываю тебе говорить, Янина, – разъярился Ренато.
– Теперь не могу, сеньор, – возразила Янина трясущимся голосом. – Теперь она там, покрыта чистым покрывалом на кровати невесты. Она закаменевшая, холодная… Ее тело, падая, было истерзано камнями. Ее прекрасное белое тело…
– Да… да… – вышел из себя Ренато. – Я знаю, что она там. Знаю, что смотрит с ужасом. Разве ты не понимаешь, что мне по крайней мере нужно знать? Не понимаешь, я думаю, что тоже мог умереть? Разве ты не видела? Не слышала? Намеки, подозрительные взгляды. Разве ты не видела, как Отец Вивье и собственная мать избегают меня, даже слуги отдалились? Это была моя вина? Теперь все говорят об этом вполголоса; скоро, возможно, они будут кричать, а я должен буду слушать. Но я хочу, чтобы по крайней мере в моей совести не раздавался этот крик. Я хочу знать, кто был плохим, кто был предателем, неверным.
– Это было, сеньор, было!
– Ты уверена? Ты хорошо знаешь? – настаивал Ренато, загоняя в угол метиску вопросами. – Почему не говоришь? О чем по твоему мнению все шептались? Что знают все, кроме меня?
– Ренато, сынок! – позвала искавшая его София, которая подошла удивленная, а затем посуровевшая, воскликнув: – О! Что ты делаешь здесь, Янина? Разве в доме нечем заняться? Я дала задание, чтобы ты выполнила. Делай, что я велела. Иди немедленно!
– Я приказал ее позвать, мама, – вступился Ренато. – Мне нужно поговорить с ней, подожди!
– Ты не будешь ждать. Иди! – приказала София властно. И смягчившись, подошла к сыну, объясняя: – Если тебе и нужно поговорить с кем-то, сынок, то со мной.
– Ты не понимаешь, мама? – сокрушался Ренато. – Мне нужно знать.
– Узнаешь, но не из уст Янины. Это недостойно тебя. Узнаешь, когда будут силы, мужество и необходимое спокойствие, чтобы ты высоко поднял голову, когда клевета захотела бы ранить, когда тебе бросят в лицо то, что ты сделал.
– Что? Я не хотел…
– Знаю, что не хотел, что пытался остановить ее, предотвратить несчастный случай, который она готовила и умышленно искала. Ты хотел преградить ей путь. Ты гнался за ней по полям, чтобы преградить путь, и тогда она отпустила поводья, схватилась за гриву, потеряв голову, а обезумевший зверь понес ее в самое опасное место, где она нашла смерть.
– Мама, ты обвиняешь меня!
– Я говорю то, о чем говорят другие, и говорит твоя совесть. А еще она говорит о том, что ты хочешь услышать: она не заслуживала тебя.
– О! В таком случае, ты знаешь, знала?
– Я знаю, что она была корыстная и жадная. Знаю, что вышла за тебя замуж по расчету, что никогда не любила тебя; чтобы защититься, она не останавливалась перед клеветой или проделками. Она была черствой, нахальной, ветреной.
– Еще и ветреной? – Ренато был взбудоражен от гнева. – Почему ты не сказала, когда она была жива? Почему?
– Потому что верила, что она родит тебе сына, и только поэтому мы могли бы простить ей все.
– Верила? Верила? Ты хочешь сказать… Договаривай, мама! Скажи наконец! Этот сын… сын, от кого он был?
– Ни от кого, Ренато. Сына не существовало. Она придумала его, чтобы обеспечить себе положение в доме, чтобы я защищала ее против тебя. Конечно, она верила, что ее ложь превратится в правду. Чтобы достичь этого, она напрасно искала тебя.
– Но как ты узнала? Кто сказал тебе?
– Доктор, который пришел засвидетельствовать смерть. Я попросила его проверить. Потребовала. Я хотела знать правду, это было нужно. Я не могла смотреть на тебя, не могла приблизиться к тебе с сомнением, что еще в той пропасти угасла скрытая жизнь, которая была моей последней мечтой. Я хотела быть уверенной и не оговорить тебя. По крайней мере Бог не хотел, он сжалился надо мной.
София остановилась, словно силы покинули ее. Напряженные руки схватились за край стола, нагруженный бумагами и книгами, рыдание вырвалось из горла, а Ренато смотрел на нее спокойно и мрачно, укрепляясь в мнении:
– Я лишь хотел знать правду, мама. Есть что-то еще, я уверен. Ты сказала, что она ветреная. Почему ты так сказала? Я бы не убил ее, как хотел, но хочу знать, требую, имел ли на это право. Если ты не знаешь, то я спрошу тех, кто знал, заставлю заговорить тех, кто молчал: Янину, Ану…
– Хватит, Ренато. Теперь ты не можешь ничего сделать. Теперь нас ждут обязанности, которые ты должен исполнить, и мы исполним их. Идем со мной.
7.
В последнем выражении благочестия, на гладком покрывале новобрачной постели, казалось, спала Айме де Мольнар, скрестив руки на груди, одетая в платье из белого шантильского кружева, которое выписала София Д`Отремон из Франции. Удивительное спокойствие опустилось на холодное лицо. Искусные руки Янины уложили черные волосы, скрывая ужасную рану на щеке. Со всех концов долины приносили для нее самые красивые цветы. В зале всех встречали большие серебряные канделябры, величественный катафалке, гроб, обитый парчой, большие восковые свечи. Весь дом наполнился запахом ладана, воска и лаванды, которые убивал языческий запах роз и запах нарда, которым было пропитано ее платье.
Янине казалось, что она одна в комнате. Одна перед телом женщины, которую так ненавидела. В углу шевельнулась тень, темная голова, подрагивающая в приступе глухих рыданий; на нее посмотрели безжалостные и прозорливые глаза Баутисты, спросившего тихим голосом со злым умыслом:
– Это не Ана, нет? Ей нужно плакать горючими слезами. Она будет тосковать по сеньоре, которая ее защищала.
– Оставь ее, дядя, – почти умоляла Янина. – Что вы собираетесь с ней делать?
– Не я, а хозяин. Я слышал разговор хозяина с сеньорой Софией, не будет проку от этой проклятой. Теперь идем со мной. Ты нужна в столовой.
Испуганная Ана подняла черную голову. Из угла, где она скрывалась, она видела, слышала. Не поднимаясь, как животное, она доползла до дверей; расширенными от испуга глазами она смотрела на удалявшиеся тени Баутисты и Янины, и задыхающимся от ужаса голосом пробормотала:
– Они убьют меня. Они убьют и меня!
Кудрявые волосы встали дыбом, а щеки окрасились в пепельный цвет. Никого не было в коридоре и на веранде. Из зала доносились приглушенные звуки, слышался скрип повозок на песчаных дорожках сада. Сдерживая дыхание, Ана дошла до ближайшей лестницы; плотно встав к стене, подавляя рукой рыдание, готовое вот-вот вырваться, скрываясь из вида, она дошла до первого густого куста, остановившись на несколько секунд, пока сердце выпрыгивало из груди, и наконец побежала, обезумевшая, движимая безотчетным чувством.
– Я ждал вас, София. Ждал уже несколько часов. Я начал было думать, что вы позабыли обо мне.
Благородная фигура священника, идущего навстречу, заставила вздрогнуть Софию Д`Отремон ознобом новой тревоги. Уже несколько часов она избегала его. Она почти позабыла о нем, или по крайней мере думала, что его легко избежать. Но оказавшись под пронзительным и сильным взглядом, сдержанным и суровым, она поборола себя и приблизилась, пытаясь извиниться:

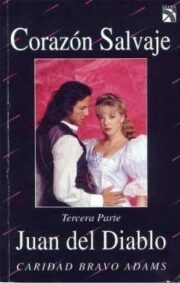
"Хуан Дьявол (ЛП)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хуан Дьявол (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хуан Дьявол (ЛП)" друзьям в соцсетях.