— Неужели я ему не нравлюсь? Почему он не замечает, как я к нему отношусь? — жалобно вопрошала Настя.
— Наверняка нравишься. И наверняка замечает. Но он не может ответить тебе взаимностью, пойми. Он взрослый, у него семья. Ты для него всего лишь ученица, ребенок, — объясняла я.
— Но у нас разница в возрасте всего одиннадцать лет! У моих дяди и тети вообще пятнадцать, и ничего, живут и счастливы! — не унималась Настя.
— Тебе нет даже восемнадцати. Он женат. Если между вам что-то будет кроме дружбы, то это сильно испортит жизнь тебе и ему. На что ты его обрекаешь?
— На любовь! — отвечала она и смотрела вдаль мечтательным взглядом.
Конечно, я тоже осознавала, что Дым невероятно привлекательный мужчина, но для меня он в первую очередь был талантливым музыкантом, у которого было чему поучиться, а во вторую, просто старшим другом, к которому можно было обратиться с любым вопросом, и не ждать, что он засмеется или неправильно поймет. Когда он что-то объяснял или рассказывал, все слушали с замиранием сердца, когда шутил, все чуть не лопались от смеха. А уж когда он пел, моя душа трепетала, словно готовая взлететь в небеса, прорвавшись сквозь потолок, все этажи и крышу дома.
А еще он открыл для нас группу «Nirvana». Он объяснил нам, что стиль этой группы называется гранж. И что их песни о настоящей мятежной душе, которая сталкивается с несправедливостью мира и одним своим существованием пытается взорвать систему. И музыка, и сама эта идея меня сильно захватили. В этом было столько свободы и вместе с тем безысходной томительной боли. Казалось, только теперь я начинала ощущать и понимать вкус жизни. Часто после репетиций мы с ребятами из группы включали магнитофон на полную громкость и скакали по репетиционному залу, вопя во весь голос: «Hello, hello, hello, how low…Hello, hello, hello»
В общем, Дым стал для меня чем-то вроде живого божества, недосягаемого и лучистого, но вместе с этим близкого и родного. Стараясь сделать ему приятное, я разучивала песни Курта Кобейна, пела, пытаясь перенять манеру и фирменную хрипотцу. Но Дым попросил меня не делать этого, поскольку я девушка и слишком юна для таких эмоций, а кроме того во мне нет того самого надрыва, свойственного для гранжа, поскольку я еще не пережила никаких потрясений взрослой жизни.
Настя же упорно продолжала ходить со мной в клуб, стараясь привлечь внимание Димы. Ее не интересовала гитара, она давно бросила занятия. Но чтобы был повод ходить в «Амальгаму» она придумала кое-что покруче. Она вызвалась заняться оформлением клуба — расписать стены. Рисовать на стенах дирекция не разрешила, но Дым предложил сколотить несколько огромные рам из деревянных брусков, натянуть на них плотную ткань, и уже на ткань наносить изображения. С помощью этих рам и Настиных полотен можно было, как угодно трансформировать пространство клуба, превращая его то в эльфийский лес, то в замок Дракулы, то вообще в поверхность Марса, усеянную кратерами. Словом, они вдвоем придумали настоящие декорации на любой случай. Весомым плюсом такой работы было и то, что стены в клубе рано или поздно закончились бы, а картин на ткани могло было быть сколько угодно, равно как и идей в Настиной голове.
Настя с упоением работала, а ученики и преподаватели с удовольствием глазели на нее. И как было не глазеть — стройная, высокая, с распущенными золотыми волосами, в рваных джинсах и белой блузе заляпанной краской, она вдохновенно творила, и под ее руками оживали новые миры. Никто и не догадывался, что приходя поздними вечерами из клуба, она и там продолжала рисовать до ночи, но тема ее домашних картин всегда одна — Дым, Дым и еще раз Дым.
Я же с головой окунулась в мир рока. Начала сочинять свои песни. С удовольствием показываю их Дыму, он хвалит, но говорит, что пока это все-таки сыро и неудобоваримо. Но я не унываю. Просто стараюсь как можно больше тренироваться, запоминать и учиться.
Сегодня занятий нет, но мы все равно тусуемся в «Амальгаме», потому что Дым организовал в клубе «квартирник». Пришли многочисленные друзья Дыма и по очереди играют и поют свои и чужие песни. Народу в небольшом репетиционном зале набилось так, что не протолкнуться — парни и девушки, взрослые и юные, студенты и школьники. Свет выключен, но зато вдоль сцены горят десятки свечей. Благодаря этому атмосфера в зале камерная и романтично-торжественная. Словно мы в средневековом замке, наслаждаемся песнями менестрелей после захода солнца. Я слушаю, как долговязый парень в черной шляпе перебирает струны гитары и низким проникновенным голосом поет: «На небе вороны, под небом монахи, и я между ними в расшитой рубахе. Лежу на просторе, легка и пригожа, и солнце взрослее, и ветер моложе…»
Эта песня мне кажется волшебной, я закрываю глаза, и чувствую, словно лечу куда-то далеко, вслед за голосом и печальным звоном гитарных струн. «Теперь я на воле! Я белая птица!»
И слыша последние строки: «Есть вечная воля! Зовет меня стая!», я сглатываю сухой комок в горле и чувствую, как по щекам против воли бегут крупные слезы, очищающие и сочные, как дождевые капли среди жаркого дня. Настя, которая сидит со мной на одном стуле, пихает меня в бок и шепчет: «Классно!» И голос ее дрожит, она тоже почти плачет.
Когда концерт заканчивается никто не желает расходиться. Включается свет, все начинают галдеть и бродить по комнатам. Кто-то, пользуясь, случаем, принес ни то вино, ни то пиво, и народ оживленно накрывает стол в самой маленькой комнате, которая служит преподавательской. Настя скользит между рядами стульев, и, садясь рядом с Дымом, начинает с ним что-то горячо обсуждать.
«Это надолго», — думаю я с тягостным вздохом, наблюдая за ней. В последнее время она полностью копирует имидж Дыма, тоже носит клетчатые рубашки и растянутые свитера, балахоны с «Нирваной», джинсы с дырами на коленях, кучу фенечек на запястьях и знак анархии на шее. Смотрю, как они сидят рядом, склонив головы над блокнотом с Настиными эскизами, и испытываю что-то вроде ревности, он же мой учитель. Но почему-то дружит и общается с ней больше, чем со мной. Мне хочется домой, хочется побыть одной и вызвать в памяти ощущения от песни, которая так сильно мне понравилась, подобрать аккорды. Но уйти без Насти я не могу, поэтому терпеливо жду, сидя сгорбившись на деревянном стуле.
Вдруг, бесшумно, словно тень, подходит и садится верхом на стул впереди меня тот самый парень в шляпе, пение которого мне так понравилось. Его лицо оказывается прямо напротив. Он пристально смотрит на меня из-под полей своей шляпы. При свете электрических ламп я вижу его впалые щеки, покрытые черной щетиной, поношенный серый свитер, заскорузлые пальцы с мозолями и темными пятнами. От него сильно несет табаком и машинным маслом, но не противно, а как-то правильно, по-мужски, словно этот запах неотъемлемая часть его образа.
— Женя, — произносит он и протягивает мне руку.
Неловко пожимаю ее, будто боясь оцарапаться о грубую кожу. И почему-то стесняюсь назвать свое имя.
— Ника, — еле слышно шепчу я.
Он улыбается, и я замечаю, что сбоку у него нет одного верхнего зуба. Кажется, жизнь его потрепала. Он примерно одного возраста с Дымом, но выглядит несколько измученно. Может быть, он много и тяжело работает, может быть много и тяжело пьет, а может быть и то и другое. Побитый жизнью, но не сломленный, он напоминает дикого степного волка, запертого в клетку.
— Как тебе концерт? — спрашивает он.
— Классный! Безумно классный! Я никогда не слышала и не видела ничего подобного, — откровенно говорю я. — А чья это песня, которую вы пели?
— Шевчука, — отвечает он, — И давай на «ты»? Ладно?
Я киваю и спрашиваю:
— Шевчука из «ДДТ»?
— Ну да, слышала?
— Я думала, он только про Родину поет, да про осень еще, — удивляюсь я.
Он искренне смеется, и я вдруг понимаю, что нам с ним будет легко общаться. Смотрю в его глаза цвета темного прозрачного меда и уже не испытываю никакого смущения, а ведь он чужой взрослый мужик, у которого неизвестно, что на уме.
Мы разговариваем с ним абсолютно непринужденно. Обо всем. О музыке, о стихах, о разных группах, о Дыме, и о том, как они вместе учились в техникуме. Он расспрашивает меня о нашей школе, оказывается он тоже в нее ходил, только десятью годами раньше. Весело смеется, интересуясь, все ли еще работает и мучает детей ненавидимый им старый химик Борис Эмильевич, по кличке «Этилыч». — «Конечно, куда ж без него», — хохочу я в ответ и чувствую себя спокойно и расслабленно, словно мы с ним старые друзья.
И вдруг он спрашивает:
— Тебе сколько лет?
— Семнадцать, недавно исполнилось, — говорю я.
— И ты еще девочка?
Вопрос звучит участливо, без всякой издевки и желания как-то задеть. Простой вопрос. Но до меня не сразу доходит его смысл. А когда через миг доходит, я глухо отвечаю: «Да», и чувствую, как щеки и уши заливает горячей волной.
— Молодец! — говорит он, — Ты умница. Береги красоту. Береги молодость, сероглазая фея.
Он резко встает со стула и, больше ничего не говоря, уходит.
А я остаюсь, оборванная на полуслове, на полувзгляде, на полудыхании. Я понимаю, что он просто ищет с кем бы провести остаток вечера, а возможно и ночь.
Мне становится нехорошо. Хочется на воздух, на легкий весенний морозец. С Настей и ее сигаретами, к которым мы недавно пристрастились. Я еще не умею затягиваться, как следует, но зато Настя курит отменно, даже колечки дыма пускает. Мне надо срочно покурить. Ведь так делают рок-звезды, когда им надо успокоиться. Я безразлична к этому Жене, я не задета его намерением. Но он разбередил мою рану, напомнил о проблеме, которая осталась нерешенной, об опыте, который я получила, вернее сказать недополучила. И я чувствую себя как вор, по ошибке ограбивший свой собственный дом.
***
В общем, история банальная и дурацкая в своей обычности. Все началось еще полтора года назад, когда в начале первой четверти десятого класса в нашу школу в параллельный класс перешел Ромка.

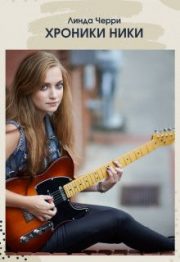
"Хроники Ники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хроники Ники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хроники Ники" друзьям в соцсетях.