Глава 39
– Близнецы и Лизель – просто картинка, Бри, я должна признать это.
Бриони улыбнулась, глядя на счастливое лицо Кисси.
– Да уж. А как миссис Хорлок? Сможет она завтра пообедать с нами?
Кисси громко шмыгнула своим большим носом.
– Она ни за что не пропустит Рождества со своими мальчиками. Хотя, знаешь, Бри, похоже, это будет ее последнее Рождество.
Бриони вздохнула:
– Вот и матушка Джонс совсем плоха. Скоро нас останется совсем мало.
Кисси пожала плечами:
– Ну, зато мальчики женятся, потом Лизель выйдет замуж. Не говоря уже о Бекки и Делии. Скоро семья снова вырастет! Когда становишься старой, перестаешь бояться смерти. Ну, то есть не так боишься ее, как в молодости. В конце концов, миссис Хорлок прожила хорошую жизнь. Она готова к встрече с Создателем. Она мне сама сказала.
Бриони знала, что Кисси просто бодрится. За столько лет Кисси и миссис Хорлок стали близки, как мать и дочь. Ближе, чем родители и дети в иных семьях. Это глубоко трогало Бриони. Кисси родилась в рабочей семье, и миссис Хорлок была единственной, кто по-доброму обращался с ней. До встречи с миссис Хорлок Кисси видела только затрещины и проклятья.
Бриони положила последние подарки под елку. Елка была очень красивая, Рождество обещало пройти замечательно. Она лично позаботится об этом. Это был двадцать второй день рождения Лизель.
Канун Рождества всегда становился для Бриони волшебным временем – даже в те дни, когда не было никакой гарантии, что в ее рождественском носке окажется хотя бы апельсин. Бриони любила саму атмосферу Рождества, любила ощущать себя частью празднества, в которое вовлечен весь мир. Она понимала: дети всего мира в эти часы испытывают те же чувства ожидания и нетерпения, которые испытывает она. Став взрослой, состоятельной женщиной, Бриони каждый год накануне праздника жертвовала большие деньги на благотворительность. В «Детский фонд» она жертвовала особенно щедро, но больше всего любила праздничный прием с раздачей подарков в католической церкви, где каждый ребенок независимо от своего вероисповедания получал подарок – несколько конфет и фрукты. Воспоминание о счастливых Детских лицах давало ей новые силы.
Она купила Розали яркое пальто, как и в прошлые годы. Толстое шерстяное пальто обрадует сестренку несказанно. Бриони погладила серебристую оберточную бумагу, предвкушая, как Розали разорвет ее.
Рождество, кажется, будет славным.
Эвандер чувствовал, что с каждым днем они с дочерью становятся все ближе. После очень непростого начала они наконец пришли к взаимному уважению и доверию. Он знал, что ей трудно смотреть на его руки, и он ее понимал – ему самому было трудно смотреть на них. Руки делались все беспомощнее, играть на пианино становилось все труднее. Но не играть он не мог и от этого мучился. Музыка звучала в его душе днем и ночью. Как только он слышал мелодию, его охватывала дикая тоска, и он либо злился, если играли плохо, либо впадал в депрессию, если слышал хорошую игру, понимая: ему так больше никогда не сыграть.
Также он обнаружил, что ему тяжело смотреть на Керри. Если бы он смог наладить отношения с ней, он был бы счастлив. Но Керри так и не простила его. Что ж, окажись он на ее месте, он испытывал бы те же чувства.
Лизель часто вглядывалась в лицо отца. Отец. Слово было непривычным для нее. Эвандер Дорси – ее отец. Было почти невозможно представить его молодым, красивым, с прекрасными руками, которым ее мать охотно вверяла свое тело. Сейчас, насколько понимала Лизель, мать не испытывала к Эвандеру прежних чувств.
С детства Лизель знала, что отличается от других детей, догадывалась, что она не совсем белая. Признав свое необычное происхождение, Лизель словно сбросила с себя тяжелый груз. К ней часто проявляли внимание мужчины, но она всегда отшивала их – возможно, потому, что в глубине души боялась той боли, которую принесла ее матери любовь к мужчине. Она хотела бы стать немного потемней, дабы ни у кого не оставалось сомнений относительно ее происхождения. Достаточно светлый цвет кожи, создающий иллюзию принадлежности к белым, всегда будет вносить двусмысленность в ее отношения с людьми. С белыми людьми, во всяком случае. Теперь она понимала, что Бесси и ее музыканты всегда знали правду о ней, – не из-за Эвандера, а потому что повидали в Америке людей смешанной расы. Правда, в Америке такие метисы происходили от черных женщин и белых мужчин. Ее мать, как всегда, сделала все наоборот.
Эта мысль заставила Лизель улыбнуться. Сейчас она чувствовала уважение к матери: как-никак, Керри пришлось побороться за своего ребенка. Керри, часто такая слабая, оказалась достаточно сильной для того, чтобы противостоять всему свету из-за Лизель.
Лизель видела, как между матерью и отцом растет стена, и ей было ужасно жаль, что так происходит – ведь мать так радовалась, знакомя ее с отцом. Но по какой-то таинственной причине все изменилось, и Лизель многое отдала бы, чтобы узнать причину разлада.
Она отпила холодного кофе и поморщилась. Эвандер улыбнулся ей. Он смотрел на нее не отрываясь, и девушку это нисколько не смущало, скорее наоборот: ей это нравилось. Это был взгляд человека, который принимал ее такой, какова она есть.
– Почему мать так настроена против тебя? – спросила Лизель своим низким, с характерной хрипотцой голосом.
Эвандер надолго задумался. Должен ли он рассказать ей?
– Мне кажется, ты имеешь право знать.
Дочь напоминала ему Керри в прежние годы. Ей так же хотелось знать все о его семье, его матери, об их жизни.
– Слушай, дочка. Мы с твоей мамой… Ну, понимаешь, я плохо поступил с ней. Очень плохо. Если я расскажу тебе, ты, возможно, посмотришь на меня другими глазами.
– Мне нужно знать. Я живу с матерью всю жизнь. Да, она пьет, иногда бывает очень эгоистичной, но мне нужно знать все, что касается нас троих. Это для меня единственная возможность обрести собственное «я».
Эвандер согласился с ее логикой. Она очень умная, его дочка. Искренность досталась ей от матери, но что-то в ней напоминало Эвандеру ее бабушку, тоже Лизель, – женщину, которая и от сыновей, и от мужа требовала при любых обстоятельствах сохранять достоинство и здравый смысл.
– Это длинная история. Она началась, когда я вернулся назад, в Штаты.
Тихо и спокойно он начал рассказ о своей жизни после разлуки с Керри, пропуская самые острые моменты, но не скрывая правды. Он рассказывал дочери все как было, и Лизель показалось, будто она чувствует жару и запах нищеты, затхлую атмосферу маленьких негритянских городков, где ее отцу приходилось жить, в то время как руки его болели все сильнее и все труднее становилось играть на пианино; она ощутила весь ужас падения некогда гордого человека на самое дно жизни. Эвандер рассказал, как пытался встать на ноги в стране, где одного цвета кожи, не говоря уже об увечьях, было достаточно, чтобы остаться за бортом. Его жизнь медленно скатывалась к тому уровню бедности, о котором большинство англичан знало только понаслышке. Заговорив о встрече со Скипом, Эвандер запнулся. Лизель налила ему стакан виски и терпеливо ожидала, пока он отхлебнет и соберется с мыслями.
Окончание рассказа она выслушала молча. Лизель сочувственно смотрела на отца, на его бессознательно двигающиеся руки, на лицо, становящееся все более серым и мрачным. Тело его устало лежало в большом плюшевом кресле. Он рассказал ей все, за исключением того, что близнецы избавились от американцев. Он инстинктивно понимал: об этом не стоило говорить. Так же как и о том, что он играл в дешевых публичных домах для больных сифилисом проституток, накачанных дешевым виски. Не всякую правду человек может вынести.
Когда он замолчал, Лизель не стала задавать никаких вопросов. По ее лицу невозможно было ничего прочесть. Как раз в тот момент, когда он подумал, что вот сейчас она встанет и уйдет, Лизель опустилась перед ним на колени и подняла к нему печальное красивое лицо. В этот миг он увидел все, что накопилось у нее на сердце, всю ее любовь и потребность в любви. Она обняла его за талию – это было ее первое дочернее объятие, уткнулась лбом в его грубые искалеченные руки, лежавшие на коленях, и горячие слезы Лизель обожгли его кожу. Он неуклюже притянул ее к себе, поцеловал в сладко пахнущие волосы, впервые физически ощущая своего ребенка, свою дочь, ее юное тело, казавшееся еще более хрупким по сравнению с массивностью его стареющей плоти.
Глядя поверх головы дочери, Эвандер почувствовал, что у него у самого по щекам потекли слезы. Он плакал о дочери, о себе, о Керри – о его прекрасной Керри, которая некогда бесстрашно приняла его без единой мысли о себе и о том, к чему может привести ее безоглядная любовь. А он принес ей только страдания и беды, которых она совсем не заслуживала.
Да, больше всего он плакал о своей Керри – о той девушке, которой она была когда-то, и о той женщине, которой она стала. Он помог первой переродиться во вторую, и ему не приходилось гордиться тем, что он создал.
Его ребенок теперь знал все и, несмотря на это, нуждался в нем.
Бернадетт наблюдала за тем, как Маркус выходит с юной блондинкой из ночного клуба в Гайд-парке. Девушка – ее никто не назвал бы женщиной, на вид всего лет девятнадцати – была высокой и гибкой, с густыми тяжелыми волосами и поразительно длинными ногами. Меховое пальто, скрывавшее детали фигуры, не могло обмануть Берни, которая, зная вкусы мужа, не сомневалась: у девушки большая грудь. Берни видела, как Маркус открывает девушке дверь своей машины, а та с улыбкой говорит ему что-то и гладит его по руке. Бернадетт закусила губу, чувствуя поднимающуюся ярость.
Итак, ей предложили соревнование? Пожалуйста, хотя она прекрасно обошлась бы и без него. Подружка Маркуса оказалась еще более красивой, чем Берни себе рисовала, и не составляло труда понять, что именно привлекло ее мужа к этой красотке. Если она работает в клубе в Гайд-парке, значит, она – дорогая проститутка. Очень дорогая, но тем не менее проститутка. Она спит с мужчинами за деньги. Исключая Маркуса, конечно, он бы не стал платить любовнице.

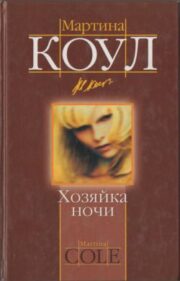
"Хозяйка ночи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хозяйка ночи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хозяйка ночи" друзьям в соцсетях.