Мои подруги хорошо знали такую практику. Мой брат, сестра и я познакомились с ней, как только наши родители расстались, до того как наш отец объявил, что он хочет быть в большей степени дядюшкой, чем отцом, и поэтому его еженедельные визиты в новую модель не укладываются. Ночь с субботы на воскресенье детям разведенных родителей приходилось проводить в квартире отца в кондоминиуме на другом конце города, маленькой, пыльной, тесной, заставленной слишком уж дорогими стереосистемами и домашними кинотеатрами, с многочисленными фотографиями детей на стенах или без оных. В квартире нашего отца мы с Люси спали на раскладном диване с тонким матрацем, пружины которого всю ночь врезались нам в бока, а Джош – в спальнике на полу. Питались дети исключительно в ресторанах. Редко кто из отцов умел готовить или хотел этому научиться. Большинство из них, как выяснялось, просто ждали появления новой жены или сожительницы, которая и будет забивать холодильник продуктами и каждый вечер готовить обед.
По утрам в воскресенье, когда приходила пора идти в церковь или еврейскую школу, парад папаш повторялся с тем отличием, что из заезжающих на подъездные дорожки автомобилей выходили дети, которые не мчались к дому и изо всех сил старались не выказывать облегчения, тогда как отцы не уезжали слишком уж быстро, напоминая себе, что встречи с детьми – удовольствие, а не обязанность. Два, три, четыре года отцы приезжали. Потом исчезали, чаще всего женились вновь, но иногда перебирались в другие города.
Вообще-то все было не так уж плохо в сравнении, скажем, с «третьим миром» или Аппалачами. Никто из нас не знал ни физической боли, ни настоящего голода. Даже с ухудшением стандарта жизни в пригородах Филадельфии он оставался гораздо выше, чем у большинства людей в мире, да и в Соединенных Штатах. Да, наши автомобили старели, каникулы мы проводили не на столь роскошных курортах, бассейны не сверкали былой чистотой, но мы оставались при автомобилях, каникулярных путешествиях, бассейне во дворе и с крышей над головой.
И матери и дети приспосабливались, стараясь опираться друг на друга. Развод учил нас, как жить в более стесненных обстоятельствах, как отвечать на вопрос вожатой герлскаутов, кого бы мы хотели привести на банкет отцов и дочерей («Отца» – так звучал наиболее предпочтительный ответ). К шестнадцати годам мои подруги и я стали дерзкими и грубыми юными циниками.
Впрочем, мне всегда хотелось знать, а что испытывают отцы, проезжая по улице, куда раньше они приезжали каждый день, действительно ли они видят свои прежние дома, замечают, какие они стоят неухоженные, как облупилась краска после их отъезда. Этим вопросом я задалась вновь, подъезжая к дому, в котором выросла. Он, как я обратила внимание, выглядел еще более запущенным, чем прежде. Ни моя мать, ни ее жуткая подруга жизни Таня не жаловали работу на участке, так что на лужайке валялись пожухлые коричневые листья. Слой гравия на подъездной дорожке стал таким же тонким, как волосы старика, зачесанные на лысину. Сворачивая на дорожку, я заметила, как за маленьким сараем для садового инвентаря блеснул металл. В сарае мы держали велосипеды. Таня «почистила» сарай, вытащила из него все старые велосипеды, от трехколесных до десятискоростных, и оставила ржаветь за сараем. «Воспринимайте это как произведение искусства», – сказала она нам, когда Джош пожаловался, что из-за груды велосипедов наш участок выглядит как свалка. Я задалась вопросом, проехал бы мой отец по этой улице, если б узнал, как и с кем живет теперь мать, и вообще, думает ли он о нас или рад тому, что трое его детей выросли, выпорхнули в мир и стали для него незнакомцами.
Моя мать ждала на подъездной дорожке. Как и я, высокая, тяжеловесная («Толстушка», – зазвучал в моей голове голос Брюса). Но если я – песочные часы (очень широкие песочные часы), то моя мать больше похожа на яблоко – шар на загорелых и мускулистых ногах. В средней школе она успешно играла в теннис, баскетбол и травяной хоккей, теперь стала звездой «Бьющих наверняка» (футбольной команды лесбиянок). Сохраняя преданность спорту, Энн Гольдблюм Шапиро искренне полагала, что прогулка быстрым шагом и заплыв в бассейне наверняка помогут решить любую проблему и улучшить любую ситуацию.
Она коротко стрижет волосы, не красит, предпочитая седину, носит удобную одежду серых, бежевых и светло-розовых тонов. Она из тех людей, к кому постоянно обращаются незнакомцы: узнать, как куда-то пройти, за советом, в примерочной универмага «Лохманн», чтобы спросить, не слишком ли большим выглядит зад в выбранном купальнике.
Сегодня она надела светло-розовые брюки, синюю водолазку, одну из своих четырнадцати пар кроссовок для бега и ветровку, украшенную треугольной радужной брошкой. Не подкрасилась, косметикой она никогда не пользовалась, а обильно тронутые сединой волосы, как обычно, торчали в разные стороны. Забираясь в машину, мать выглядела очень счастливой. Для нее бесплатные кулинарные курсы на самом большом продуктовом рынке в центре Филадельфии были праздником. Активного участия зрителей не предусматривалось, но никто не удосужился сообщить ей об этом.
– Красиво! – Я указала на брошку.
– Тебе нравится? – спросила она. – Мы с Таней купили их в Нью-Хоупе в прошлый уик-энд.
– Мне тоже? – полюбопытствовала я.
– Нет, – не клюнула она на приманку. – Тебе мы взяли другое.
Мать протянула мне прямоугольник, завернутый в пурпурную бумагу. Я развернула обертку, остановившись на красный свет, и увидела магнит: карикатурное изображение девчушки с кудряшками на голове и в очках. «Я не лесбиянка, но моя мать – да» – полукругом охватывала девчушку надпись. Стопроцентное попадание.
Я включила радио и полчаса, пока мы добирались до города, молчала. Мать тихонько сидела рядом, вероятно, ожидая, когда я заговорю о последнем опусе Брюса. Уже в «Терминале», между овощным лотком и прилавком свежей рыбы, я заговорила.
– Хорош в постели, – фыркнула я. – Ха!
Мать искоса глянула на меня.
– Как я понимаю, он не хорош?
– Я не хочу это с тобой обсуждать, – проворчала я. Мы прошли мимо пекарен, киосков с тайской и мексиканской едой, нашли свободные места перед демонстрационной кухней. Шеф-повар (я его вспомнила, тремя неделями раньше он показывал, как готовить любимые блюда Юга) побледнел, когда мать уселась перед ним.
Она пожала плечами, посмотрев на меня, потом перевела взгляд на демонстрационную доску. Сегодняшний семинар назывался «Американские классические блюда из пяти ингредиентов». Шеф начал вещать. Один из его помощников, нескладный, прыщавый подросток из поварской школы, принялся шинковать капусту.
– Он отрубит себе палец, – предсказала мать.
– Щ-ш-ш! – осекла я ее, потому что сидевшие в первых рядах постоянные посетители курсов, в основном старушки, которые воспринимали эти лекции на полном серьезе, одарили нас суровыми взглядами.
– Точно, отрубит, – продолжила она. – Потому что неправильно держит нож. А теперь, возвращаясь к Брюсу...
– Я не хочу об этом говорить.
Шеф растопил на сковородке огромный кусок масла. Моя мать ахнула, словно засвидетельствовала отсечение головы, потом подняла руку.
– Есть ли модификация этого рецепта для тех, кто не хочет подвергать сердце дополнительному риску? – спросила она. Шеф вздохнул и заговорил об оливковом масле. Мать переключилась на меня. – Забудь Брюса, Ты найдешь кого-нибудь получше.
– Мама!
– Ш-ш-ш! – зашипели из первых рядов. Моя мать покачала головой:
– Я не могу в это поверить.
– Во что?
– А ты посмотри на размер сковороды. Она же мала.
И точно, шеф пытался уместить слишком уж много плохо нашинкованной капусты в неглубокую сковороду. Моя мать подняла руку. Я рывком опустила ее.
– Отстань от него.
– Но как он чему-нибудь научится, если никто не скажет ему, что он ошибается? – пожаловалась она, всматриваясь в происходящее на сцене.
– Совершенно верно, – согласилась с ней женщина, сидевшая рядом.
– А если он собирается обвалять курицу в этой муке, – продолжила мать, – я думаю, сначала он должен втереть в нее приправы.
– Вы когда-нибудь пробовали кайенский перец? – спросил мужчина, сидящий перед нами. – Совсем чуть-чуть, вы понимаете, всего щепотку, но вкус отменный.
– С тимьяном тоже получается неплохо, – отметила моя мать.
– Господи... – Я закрыла глаза и уселась поудобнее на складном стуле.
Шеф тем временем перешел к сладкому картофелю и оладьям с яблоками, а мать продолжала доставать его вопросами о заменителях, модификациях, особых способах приготовления (которым выучилась за долгие годы работы домохозяйкой), параллельно комментируя его действия, чем забавляла сидящих рядом и вызывала гнев всего первого ряда.
Позже, за капуччино и горячими претцелями с маслом, моя мать разразилась речью, которую, несомненно, готовила с прошлого вечера.
– Я знаю, ты сейчас обижена, – начала она. – Многие парни могут сказать то же самое.
– Да, конечно, – пробормотала я, не отрывая глаз от чашки.
– Женщины тоже, – добавила моя мать.
– Ма! Сколько раз я могу тебе повторять? Я не лесбиянка! Женщины меня не интересуют.
Мать покачала головой, вроде бы в печали.
– А я возлагала на тебя такие надежды, – притворно вздохнула она и указала на один из рыбных прилавков, где грудой лежали судаки и карпы с открытыми ртами и выпученными глазами. Их чешуя под дневным светом поблескивала серебром. – Вот тебе наглядный урок.
– Это рыбный прилавок, – поправила я ее.
– Он говорит тебе о том, что рыбы в море полно, – ответила мать. Подошла, постучала ногтем по стеклу. Я с неохотой последовала за ней. – Видишь? Воспринимай каждую из этих рыбин как одинокого парня.
Я смотрела на рыб. Уложенные на колотый лед, они, казалось, смотрели на меня.
– Манеры у них получше будут, – заметила я. – С некоторыми и поговорить приятнее.
– Хотите рыбу? – спросила низкорослая азиатка в резиновом фартуке до пола. В руке она держала разделочный нож. Я даже подумала о том, чтобы одолжить его у нее и воткнуть в брюхо Брюса. – Хорошая рыба, – принялась уговаривать нас продавщица.

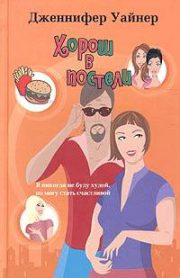
"Хорош в постели" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хорош в постели". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хорош в постели" друзьям в соцсетях.