Он не ответил. Даже не посмотрел на меня. Просто развернулся и ушел.
Саманта не выключала двигатель, так что подъехала тут же.
– Ты в порядке? – спросила она, когда я скользнула на пассажирское сиденье с коробкой в руках.
Я молча кивнула. Саманта, возможно, думала, что я веду себя глупо. Но в такой ситуации я и не могла рассчитывать на ее сочувствие. Ростом пять футов и десять дюймов, с иссиня-черными волосами, белоснежной кожей и высокими, словно высеченными из мрамора скулами, она напоминала молодую Анжелику Хьюстон[2]. И оставалась худой. Не прилагая к этому никаких усилий. Увидев перед собой самые роскошные яства, Саманта скорее всего остановила бы свой выбор на персике и ржаном хлебце. Не будь она моей лучшей подругой, я бы ее ненавидела, но даже лучшей подруге трудно не завидовать, если она может есть, а может и не есть, тогда как я сметаю все да еще помогаю ей, если она больше есть не хочет. И проблема с лицом и фигурой у нее только одна: они привлекают слишком пристальное внимание. Поэтому ей, конечно, никогда не понять, каково это жить в таком теле, как у меня.
Саманта коротко глянула на меня.
– Итак, как я догадываюсь, между вами все кончено?
– Логичная догадка, – буркнула я. Во рту стояла горечь, из зеркала со стороны пассажирского сиденья на меня смотрело посеревшее лицо. Я разглядывала содержимое картонной коробки: мои книги, сережки, тюбик помады, как я думала, безвозвратно утерянный.
– Как ты? – участливо спросила Саманта.
– Нормально.
– Хочешь что-нибудь выпить? Может, пообедаем? Или сходим в кино?
Я крепче вцепилась в коробку и закрыла глаза, чтобы не видеть, где мы находимся, не видеть улиц, по которым я так часто ехала к нему.
– Думаю, я хочу вернуться домой.
Автоответчик мигал, когда я вошла в квартиру. Не обращая на него внимания, я стянула с себя рабочую одежду, надела широкие штаны и футболку и босиком пошлепала на кухню. Из холодильника достала упаковку лимонада «Минит меид», с верхней полки буфета – пинтовую бутылку текилы. Налила и того и другого в миску, глубоко вдохнула, отхлебнула прямо из миски, уселась на диван, обтянутый джинсовой тканью, и заставила себя взяться за чтение.
Любить толстушку
Брюс Губерман
«Мне никогда не забыть тот день, когда я узнал, что моя девушка весит больше меня.
Она поехала покататься на велосипеде, я сидел дома, смотрел футбол, пролистывал журналы, лежащие на ее кофейном столике, и наткнулся на ее ежедневник «Уэйт уочерс», книжицу размером с ладонь, в которой она записывала, что съела и когда, что собиралась съесть, выпила или нет положенные в день восемь стаканов воды. Я нашел в ежедневнике ее имя и фамилию. Ее идентификационный номер. И ее вес, который, будучи джентльменом, привести здесь не могу. Скажу лишь, что он меня поразил.
Я знал, что К. – крупная девушка. Куда крупнее тех женщин, которых я видел на экране телевизора, прогуливающихся в купальных костюмах или порхающих по комедиям положений и средневековым драмам. И определенно крупнее тех женщин, с которыми я встречался раньше.
«Неужто они обе были мельче?» – презрительно подумала я.
Я не считал себя поклонником женщин в теле, но, встретив К., не устоял перед ее остроумием, ее смехом, ее сверкающими глазами. А с ее телом, решил я, уж как-нибудь сживусь.
Шириной плеч она не уступала мне, как и размером рук, а от грудей до живота, от талии и до колен меня везде встречали теплые, мягкие, приятные на ощупь округлости. Обнимая ее, я словно попадал на седьмое небо. Такие же чувства испытываешь, возвращаясь домой.
Но жизнь с ней вызывала не только положительные эмоции. Может, причина в том, что я хорошо усвоил общественные ожидания, диктующие, чего должен хотеть мужчина и как должна выглядеть женщина. Но, что более вероятно, эти ожидания слишком хорошо усвоила она. К. посвятила жизнь борьбе с телом. Ростом пять футов и десять дюймов, с фигурой линейного (Линейный – защитник в американском футболе. Одно из требований – крепкое телосложение) и весом, позволяющим ей рассчитывать на место в заявочном списке любой профессиональной футбольной команды, К., конечно, не могла стать невидимой.
Но я знал: если б появилась такая возможность, что сутуловатость, тяжелая походка и бесформенные черные свитера могли бы укрыть ее от окружающего мира, она бы тут же ею воспользовалась. К. не получала удовольствия от многого из того, что нравилось мне, именно в силу ее веса, ее габаритов, ее сдобного, zaftig тела.
И сколько бы раз я ни говорил ей, что она прекрасна, я знал, что она никогда мне не поверит. И «сколько бы раз я ни говорил ей, что ее вес не имеет ровно никакого значения, я знал, что для нее имеет, и немалое. Мой голос, голос одиночки, уступал в громкости голосу мира. Я буквально чувствовал ее стыд, когда шагал рядом с ней по улице. Стыд этот устраивался между нами в кинотеатре и ждал, пока кто-то произнесет самое грязное для нее слово – толстая.
И я знал, что это не паранойя. Вы слышите снова и снова, что лишний вес – это последнее, к чему можно отнестись с предубеждением, не оказавшись под огнем критики и осуждения, что толстяки – единственные объекты для насмешек в нашем политкорректном мире. Пригласите на свидание женщину королевских размеров, и вы убедитесь в моей правоте. Вы увидите, как люди смотрят на нее, как смотрят на вас, потому что вы с ней. Попытайтесь купить ей белье на День святого Валентина, и вы поймете, что размеры заканчиваются до того, как начинается она. Всякий раз, когда вы идете с ней в ресторан, вы видите, какие она испытывает муки, балансируя между тем, что ей хочется, и тем, что она может себе позволить, что имеет право съесть на публике.
И что может позволить себе сказать.
Я помню, когда разразился скандал с Моникой Левински, К., газетный репортер, написала страстную статью в защиту практикантки Белого дома, которую предала не только ее вашингтонская подруга Линда Грипп, но и друзья из Беверли-Хиллз, учившиеся с Моникой в средней школе и поспешившие продать свои воспоминания таблоиду «Инсайд эдишн» и журналу «Пипл». После этой статьи К. получила множество ругательных писем, в том числе письмо от одного мужчины, начинавшееся словами: «По твоей статье сразу ясно, что ты толстая и тебя никто не любит». И вот это письмо, это слово произвело на нее наибольшее впечатление. Словно если верна первая часть – «толстая», то верна и вторая – «никто тебя не любит». И быть внешне похожей на Левински хуже, чем быть предателем и даже тупицей. Как будто избыточный вес – это преступление.
В нашем мире любить толстушку – это подвиг, может, даже фатальная обреченность. Потому что, любя К., я знал, что люблю женщину, которая не верит, что достойна любви.
И теперь, когда все кончено, я не знаю, на кого излить свою злость и печаль. На этот мир, который заставил ее вот так воспринимать свое тело, нет, себя, отнял у нее веру в то, что она может быть желанной. На К., которой не хватило силы воли наплевать на то, что говорит ей этот мир. Или на себя, поскольку сила моей любви оказалась недостаточной, чтобы заставить К. поверить в себя».
Я проплакала все «Свадьбы знаменитостей», сидя на полу у дивана, слезы скатывались с моего подбородка на футболку, когда одна за другой тонюсенькие, как папиросная бумага, супермодели говорили: «Я согласна». Я плакала о Брюсе, который понимал меня гораздо лучше, чем я думала, и любил куда сильнее, чем я того заслуживала. Он мог стать всем, чего я хотела, всем, на что надеялась. Он мог стать моим мужем. А я бортанула его.
И потеряла навеки. И Брюса, и его родителей, живших в Нью-Джерси, к которым я очень привязались. Его отец, с добрыми, как у Брюса, глазами, работал дерматологом. Свою семью он просто обожал, другого слова я найти не могу. И меня такое отношение поражало. В сравнении с моим отцом Бернард Губерман тянул на пришельца с Марса. «Он действительно любит своего сына! – изумлялась я. – Он действительно хочет быть с ним! Он многое помнит из жизни Брюса!» Вроде бы я понравилась Бернарду Губерману, но, возможно, не как личность, а потому что была: а) еврейкой, то есть потенциальной снохой; б) работающей женщиной, а не авантюристкой, которая охотится за деньгами семьи; в) источником счастья для его сына. Но в принципе меня не волновали причины его благожелательного отношения ко мне. Я просто купалась в его доброте.
Мать Брюса, Одри, поддерживала идеальную чистоту в доме с белыми от стены до стены коврами и семью ванными комнатами. Ее отличали ухоженные ногти с цветом лака, о котором в следующем месяце я читала в «Вог», и стильно уложенные волосы. Но помимо маникюра, Одри могла похвастаться и хорошим характером, позволяющим ей легко сходиться и ладить с людьми. В разговорах с подругами я называла ее Одри Безупречный Вкус. Она получила диплом учителя, но ко времени нашего знакомства работа осталась в далеком прошлом, и свое время она делила между обязанностями жены и матери и общественной деятельностью: вечный член родительского комитета, вожатая каб-скаутов[3], президент отделения «Хадассы»[4], короче, человек, на которого всегда можно рассчитывать при организации благотворительного обеда в синагоге или зимнего бала.
Недостаток таких родителей, думала я, состоит в том, что они убивают честолюбие в своих детях. С моими разведенными родителями и долгами за обучение в колледже мне всегда приходилось лезть из кожи вон, чтобы подняться еще на одну ступеньку социальной лестницы, получить новую работу, новый заказ на статью, расшибаться в лепешку ради денег, ради признания, ради славы, ведь только так можно стать знаменитой, когда твой удел – пересказывать истории других людей. Когда я начала работать в маленькой газете затерянного бог весть где городка и писала об автомобильных авариях и заседаниях советов директоров местных компаний, мне не терпелось перейти в более крупную газету, а когда я в такую газету перешла, то уже через две недели стала готовиться к следующему переходу.

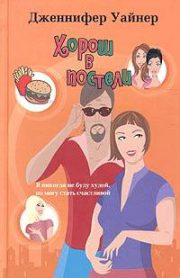
"Хорош в постели" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хорош в постели". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хорош в постели" друзьям в соцсетях.