«Не плачь, – приказала я себе. – Не плачь, не плачь, не плачь». Как же я могла так ошибиться? Какая же я жалкая. Настоящее посмешище. Я хотела вернуть Брюса. Черт, я хотела к матери. «Не плачь, не плачь, не плачь».
– Ваша глаза, – мягко заметил он. – Ваши глаза убивают меня.
– Извините, – тупо ответила я. Я же еще и извинилась. Хуже быть просто не могло. Стив смотрел поверх моей головы, в окно.
– Эй, не ваша ли это собака?
Я повернулась и, само собой, увидела Саманту и Нифкина, которые таращились на нас сквозь стекло. На Сэм Стив произвел впечатление. Перехватив мой взгляд, она подняла большой палец.
– Прошу меня извинить, – пробормотала я и заставила ноги поднять тело. В женском туалете плеснула холодной водой в лицо, стараясь не дышать, чувствуя, как слезы, которые я не выплакала, собираются за лбом и трансформируются в головную боль. Я подумала о предстоящем вечере: обед, потом последний фильм-катастрофа в ближайшем мульти-комплексе. Но я не могла. Не могла целый вечер просидеть рядом с человеком, который заявил, что наша встреча – не свидание. Возможно, со стороны это выглядит нелепо, но я не могла.
Прошла на кухню и нашла нашу официантку.
– Скоро все будет готово. – Тут она увидела мое лицо. – О Господи... что? Он гей? Сбежавший преступник? Раньше встречался с твоей матерью?
– Что-то в этом роде, – ответила я.
– Хочешь сказать, что он извращенец?
– Да, – кивнула я и на мгновение задумалась. – Нет. Вот что я тебе скажу... разложи всю еду по контейнерам, а ему ничего не говори. Давай поглядим, сколько он просидит.
Она закатила глаза.
– Так плохо?
– Тут есть другой выход, так?
Официантка указала на дверь черного хода. Около нее в кресле сидел посудомойщик, должно быть, решил пару минут отдохнуть.
– Тебе туда.
И вскоре, с двумя контейнерами еды и с тем, что осталось от моей гордости, я выскользнула мимо посудомойщика в темноту. Голова раскалывалась от боли. «Дура! – яростно думала я. – Идиотка! Безмозглая идиотка, решившая, что на такую, как я, кто-то может посмотреть».
Я поднялась в свою квартиру, оставила еду на кухне, переоделась, сбежала по лестнице, выскочила за дверь и зашагала сначала к реке, потом к Общественному холму и Старому городу, наконец повернула на запад, к Риттенхауз-сквер.
Часть меня, здравомыслящая часть, убеждала, что ничего особенного не произошло, маленькая выбоина на велосипедной тропе жизни, что идиот он, а не я. «Холостяк», – сказал он. Я-то ошиблась лишь в одном: решила, что он приглашает меня на свидание. И что с того, что с этим свиданием не выгорело? Я ходила на свидания. У меня даже были бойфренды. И вполне логично предположить, что они и дальше у меня будут, а этот говнюк не стоит и секунды моего времени.
Но другая часть, с пронзительным голосом, бьющаяся в истерике, суперкритичная и, что самое главное, куда более громкая, твердила совсем другое, прямо противоположное.
Что я тупая. Что я толстая. Такая толстая, что больше меня никто не полюбит, и такая тупая, что не могу этого понять. Что я дура, более того, показала себя полной дурой. Этот Стив, этот инженер в рубашке поло, возможно, до сих пор сидел за пустым столиком, ел кальмаров и смеялся над большой глупой Кэнни.
И кому я могла об этом рассказать? Кто мог утешить меня?
Только не мать. Я не могла обсуждать с ней свою любовную жизнь после того, как однозначно дала понять, что не одобряю ее. И плюс эта рубрика Брюса, мать и так знала слишком много о том, чем я занимаюсь с наступлением темноты.
Я могла сказать Саманте, но она подумала бы, что я рехнулась. «С чего ты взяла, что причина в твоей внешности?» – спросила бы она, и я бы пробормотала в ответ, что, возможно, есть и другая причина, может, налицо просто недопонимание, при этом глубоко в душе зная истину, Евангелие от моего отца: я толстая, я уродливая, и никто больше меня не полюбит. Это раздражало. Я хотела, чтобы мои друзья считали меня умной, забавной, способной. Я не хотела, чтобы они меня жалели.
Чего я хотела, так это позвонить Брюсу. Я не могла рассказать ему о последнем унижении, которое мне пришлось пережить... мне не требовалась его жалость, я не желала, чтобы он думал, будто я ползу к нему на коленях или собираюсь ползти, потому что какой-то говнюк с волосатыми ногами отверг меня, но мне недоставало голоса Брюса. Независимо от того, что он написал в «Мокси», независимо от того, как он обсмеял меня. После трех лет нашей совместной жизни он знал меня лучше, чем кто бы то ни было, за исключением Саманты, но в тот момент, когда я стояла на углу Семнадцатой и Ореховой улиц, мне так захотелось поговорить с ним, что у меня ослабели колени.
Я поспешила домой, взлетела на третий этаж, перепрыгивая через ступеньки. Потная, с дрожащими руками, распласталась на кровати, потянулась к телефону, набрала номер. Брюс тут же снял трубку.
– Эй, Брюс, – начала я.
– Кэнни? – Голос показался мне странным. – Я как раз собирался позвонить тебе.
– Правда? – В моей душе затеплилась надежда.
– Я просто хотел, чтобы ты знала. – Послышались рыдания. – Мой отец умер сегодня утром.
Я не помню, что я тогда говорила Брюсу. Помню подробности, которые он мне сообщил: у отца случился инсульт, и он умер в больнице. Все произошло очень быстро.
Я плакала, Брюс плакал. Я не могла вспомнить, когда я так кого-то жалела. Свершилась жуткая несправедливость. Отец Брюса был прекрасный человек. Он любил свою семью. «Скорее всего, – подумала я, – он любил и меня».
Но пусть я и очень горевала, искорка надежды начала превращаться в пламя. Теперь Брюс все поймет, – прошептал голос в голове. После таких потерь мир воспринимается по-другому. Вот и он увидит в ином свете мою развалившуюся семью, бросившего нас отца. Когда-то я спасла Брюса от одиночества, от сексуального невежества и стыда... И теперь вновь потребуюсь ему, чтобы с моей помощью он сумел пережить эту беду.
Я представила себе нас на похоронах, как я держу Брюса за руку, как помогаю ему, как он опирается на меня, в свое время мне хотелось вот так же опереться на него. Я представила себе, как Брюс смотрит на меня с уважением и пониманием, смотрит глазами мужчины, а не мальчика.
– Позволь мне помочь. Чем я могу помочь? – спросила я. – Хочешь, чтобы я приехала?
– Нет, – ответил он тут же, – я еду домой, там уже тысяча человек. Все так ужасно. Сможешь ты завтра приехать на похороны?
– Конечно. Конечно. Я тебя люблю. – Эти слова сорвались с моих губ до того, как я подумала, что говорю.
– И что это значит? – спросил Брюс сквозь слезы. Надо отдать мне должное, я быстро пришла в себя.
– Что я хочу быть там ради тебя... и помочь тебе, насколько это в моих силах.
– Просто приезжай завтра, – пробубнил он. – Это все, что ты можешь сделать на текущий момент.
Но что-то в глубинах души заставило меня продолжить.
– Я тебя люблю, – повторила я, ожидая ответа. Брюс вздохнул, он знал, что мне нужно, но не хотел или не мог дать мне желаемое.
– Я должен бежать. Извини, Кэнни.
Часть II
Перестраивая себя
Глава 5
На похоронах Бернарда Губермана я, конечно, ужасно себя чувствовала, но в принципе могло быть и хуже. Если б, скажем, я покончила с собой.
Служба началась в два часа. Я приехала рано, но на стоянке мест уже не было, и автомобили стояли вдоль подъездной дорожки до самого шоссе. Наконец я припарковалась на противоположной стороне, перебежала четыре полосы движения и сразу попала в кучку друзей Брюса. Они стояли в вестибюле, все как один в лучших костюмах, должно быть, в них ходили на собеседование, устраиваясь на работу. Сунув руки в карманы, они о чем-то тихонько говорили, разглядывая свои ноги. День-то выдался прекрасный, солнечный осенний день. Отличное время для того, чтобы полюбоваться меняющими цвет листьями, купить яблочный сидр, первый раз после лета растопить камин. И совершенно неподходящее для похорон.
– Привет, Кэнни, – поздоровался Джордж.
– Как он? – спросила я. Джордж пожал плечами:
– Он внутри.
Брюса я нашла сидящим на стуле в маленьком вестибюле, с бутылкой воды «Эвиан» в одной руке и носовым платком в другой. В синем костюме, который Брюс надевал на прошлый Йом кипур[24], когда мы сидели бок о бок в храме. Костюм слишком узкий, галстук слишком короткий, на ногах – брезентовые теннисные туфли, которые Брюс разрисовал звездами и завитушками во время особенно скучной лекции. Как только я его увидела, перестало существовать наше недавнее прошлое: мое решение пожить врозь, его решение расписать мое тело на страницах многотиражного журнала. Ничего не осталось, только наша близость и его боль. Мать Брюса стояла над ним, положив руку ему на плечо. Везде толпились люди. Все плакали.
Я подошла к Брюсу, опустилась на колени, обняла его.
– Спасибо, что пришла, – сказал он. Холодно. Формально. Я поцеловала его в колючую щеку, похоже, он не брился дня три. Брюс вроде бы и не заметил. Его мать приняла меня куда теплее. Обняла, и от ее слов не веяло арктическим холодом.
– Кэнни, – прошептала она. – Я рада, что ты пришла. Я знала, что будет плохо. Знала, что от горя меня будет выворачивать наизнанку, но не могла не прийти, даже после нашего разрыва на автомобильной стоянке. Тогда я просто представить себе не могла, что Бернард Губерман вот так умрет в один миг.
Но было не просто плохо. Мне казалось, что я сама умираю. Я умирала, когда рабби, с которым я несколько раз встречалась за обедом в доме Брюса, рассказывал о том, как Бернард Леонард Губерман жил для жены и сына. Как приводил Одри в магазины игрушек, хотя у них еще не было внуков. «Надо готовиться заранее», – говорил он. Вот тут у меня все поплыло перед глазами. Я знала, что именно от меня ждали этих внуков, понимала, как они любили бы деда, чувствовала, сколько радости принесла бы мне эта любовь.

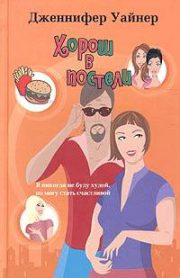
"Хорош в постели" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хорош в постели". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хорош в постели" друзьям в соцсетях.