– Помилуйте, драгоценная моя, что я получу с вашей смерти… Разве что продать поклонникам ваше письмо за три рубля… если столько дадут. Мне и достойные похороны вам устроить будет не на что, мне жалованье хористкам платить нечем, а вы изволите говорить о бенефисе, – усталым голосом говорил маленький человечек, вытирая лоб огромным и не очень чистым платком. Увидев растерянно застывшую на пороге Софью, он кисло поморщился и боком начал слезать со стола.
– Господи, и это с самого утра… Чем могу быть полезен, мадемуазель? Вам, конечно, в труппу поступить?
Софья совсем потерялась и смогла только пролепетать:
– У меня рекомендательное письмо к господину Чаеву…
Дама, разговаривающая с антрепренером рыдающим голосом, резко поднялась и прошествовала к дверям. Софья на всякий случай поклонилась ей, но та удостоила ее лишь неприязненным взглядом и не очень тихо процедила сквозь зубы:
– Боже правый, когда прекратится это нашествие девиц из любительских спектаклей…
Софья попятилась, давая дорогу. Дверь за дамой захлопнулась так, что пыль поднялась столбом и золоченый идол начал заваливаться набок. Софья и Гольденберг одновременно бросились к нему.
– Оставьте, я сам… Я знаю, как с ним надо… – пропыхтел маленький антрепренер, энергично толкая идола плечом и подпирая его для надежности каким-то ветхозаветным посохом. – Встаньте там, не так пыльно… Нет, здесь на вас Ричардов трон грохнется, вы от него подальше, лучше к шкафику… Так чего же вы хотите, моя радость? На каких сценах вы играли?
– Я, видите ли, никогда не играла…
– А, так вам контрамарку?! – несказанно обрадовался Гольденберг и, бодро обежав стол, начал рыться в ящике. – Одну минуточку… Такой очаровательной барышне… Сие мновение-с…
– Я хотела поступить к вам, – храбро сказала Софья. И тут же поспешно добавила: – На любое жалованье.
– Вот так я и знал, – сокрушенно сказал Гольденберг, выпрямляясь. – Видит бог, визит гранд-кокетт с утра, до самовара, – не к добру. Так вы, нигде не играя, хотите просить ангажемента? Хотя бы в любительских спектаклях участвовали?
– Нет, – упавшим голосом созналась Софья. – Прошу прощения. До свидания.
– Постойте, мадемуазель… – тяжело вздохнул Гольденберг. – Подойдите сюда. Да не ко мне – к окну.
Софья послушалась. И стояла молча, глядя в окно, на снова потемневший двор, пока антрепренер бегал вокруг нее, что-то невразумительно бормоча себе под нос. Ничего ободряющего для себя Софья в этом бормотании не слышала и на просьбу Гольденберга пройтись сделала это как механическая кукла, ничуть не заботясь о впечатлении. Про себя она уже понимала, что ничего из этого не выйдет.
– М-да. – Гольденберг снова взобрался на стол и склонил набок голову, уныло разглядывая Софью. – Скажите, пожалуйста, барышня… Может быть, вы петь умеете?
– Умею, – холодея от собственной наглости, сказала Софья. – Вы позволите?
Она подошла к заваленному разноцветным пыльным хламом фортепиано, подняла крышку, села и, взяв начальные аккорды, запела арию Татьяны из прогремевшей недавно в Москве оперы «Евгений Онегин».
В Большом императорском театре Софья не была никогда. Но сестра Анна оказывалась там часто и, приезжая в Грешневку, садилась за разбитое, расстроенное фортепиано, напевая партии из любимых опер. Как у всех сестер Грешневых, у Анны был великолепный слух и неплохой голос: с ее напева Софья знала все оперные новинки, идущие в столицах. Ария Татьяны понравилась ей больше других, и она все лето напевала ее, убирая дом, копаясь вместе с Марфой в огороде или расшивая гладью блузки или белье. Но сейчас она в первый раз пела арию в полный голос, прекрасно понимая при этом, что это исполнение вряд ли ее спасет. На самой высокой ноте она чуть было не рассмеялась: да как ей только в голову пришло проситься в актрисы, если она ни разу в жизни не была в театре и обо всем, что там происходит, знает лишь по рассказам сестры?! Софья взяла завершающий аккорд и, забыв снять с лица улыбку, повернулась к Гольденбергу. «Ну его… Сейчас прямо отсюда пойду ателье искать».
Гольденберг молчал. Молчал долго, не сводя с Софьи круглых птичьих глаз, и той уже становилось не по себе, когда антрепренер задумчиво спросил:
– Кто вам ставил голос, барышня? У кого вы занимались?
– Никто, – испуганно ответила Софья. – Со мной занималась сестра, она любит оперу…
– Хм-м… Кто же ваша сестра, позвольте узнать?
– Это не имеет значения. – Софья встала из-за фортепиано. Называть свою фамилию ей не хотелось; к тому же она вспомнила, что у нее нет паспорта, а антрепренер, возможно, захочет его увидеть.
– Позволите откланяться? Извините за отнятое время…
– Постойте, постойте… – Гольденберг нагнал ее уже на пороге. – Вы передумали?
– Н-нет…
– Ну, так вы приняты, вот же, право, наказание с этими девицами! Приходите завтра на репетицию, я представлю вас труппе. Разумеется, роли вы никакой не получите, у меня вон примы скандалы закатывают, а я ничего не могу сделать… Но статисткой – пожалуйста. Пять рублей в месяц. Вас устроит?
Софья кивнула, не веря тому, что все так удачно складывается. Пять рублей! Служба, пусть и статисткой, пусть и на подмостках! Свобода! Какое счастье, боже, какое счастье…
– Паспорта у вас, разумеется, нет? – деловито спросил Гольденберг. Софья молча кивнула. Но, видимо, на ее лице было написано такое изумление, что антрепренер усмехнулся:
– А чему вы удивляетесь? У меня почти все труппа беспаспортные, ведущий комик от полиции прячется! Такова доля актерская… Скажите, – вдруг снова забеспокоился он, – а родители вас разыскивать не будут? Вы вот сказали – сестра… Мне, знаете ли, неприятности не нужны, и так расхлебывать нечем.
Софья заверила его, что она круглая сирота и искать ее некому.
– А сестре я немедленно отпишу.
– Вот и слава богу, – успокоился Гольденберг. – Что ж, ступайте. Да… денег, я полагаю, у вас ни копейки?
Софья только беспомощно пожала плечами. Гольденберг скептически усмехнулся, нырнул в ящик стола и извлек оттуда пятирублевую ассигнацию.
– Вот… возьмите пока в счет жалованья. И не вздумайте идти в гостиницу, там дерут, как с английских лордов! Снимете комнату с кем-нибудь из статисток напополам. Все, ступайте… И так сколько времени ушло… Репетиция вот-вот начнется… А вечером приходите на спектакль, даем «Макбета», вам полезно будет посмотреть.
Софья сбивчиво поблагодарила и шмыгнула за дверь. Хотелось плакать, смеяться от счастья и молиться.
Глава 6
Катерина. Избавление
Жизнь в Мартыновском приюте была монотонна, как дождь за окном. Каждый день был похож на другой: ранний подъем, уроки, работа, обед, прогулка, снова работа… Впрочем, довольно быстро выяснилось, что на занятиях Катерине Грешневой делать нечего: и Закон Божий, и историю она хорошо помнила после уроков со старшими сестрами в имении, владела четырьмя действиями арифметики, и приютское начальство решило, что незачем хорошей мастерице тратить время, бесцельно просиживая в классах. Теперь сразу после завтрака Катерина отправлялась в пустую «рабочую» и несколько часов кроила и вышивала в одиночестве, наслаждаясь этими часами, как самым большим удовольствием. Работала она хорошо, искренне стараясь, и воспитательницы не придирались к ней. По субботам появлялась Анна с целой охапкой вкусных вещей, долго сидела в обнимку с сестрой в «гостевой», звала ее к себе, но Катерина неизменно отказывалась: возможная встреча с покровителем сестры беспокоила ее. Анна, видимо, тоже думала об этом и не настаивала.
После уединенной жизни в Грешневке, где Катерина пропадала одна целыми днями то в лесу, то на реке, то в полях, постоянное присутствие рядом чужих людей мучило ее и не давало привыкнуть к этой новой жизни. Подруг у нее не появилось, но Катерину это не тяготило: среди тихих, безответных, запуганных девочек приюта не нашлось ни одной, которую ей хотелось бы видеть рядом с собой. В приюте процветало шпионство и ябедничество, девочки внимательно наблюдали за своими товарками и при первой же возможности бежали жаловаться воспитательницам. В «рабочей» у печки всегда стояло несколько наказанных. Время от времени туда попадала и Катерина, и всегда за одно и то же: за самовольные отлучки во время гуляний к пруду. Впрочем, довольно быстро она сообразила, что не стоит привлекать внимание Елены Васильевны к этим ее исчезновениям, и стала осторожнее: бегала к пруду не чаще раза в неделю и ненадолго. Несколько раз ей даже удавалось вернуться незамеченной.
Узел, спрятанный желтоглазым Васькой, пропал на другой же день, и, не найдя его, Катерина слегка расстроилась: значит, ее новый знакомый пришел в ее отсутствие, и неизвестно, появится ли еще когда-нибудь. Но через неделю Катерина опять нашла в кустах какие-то свертки; ей показалось, что это были рулоны материи. И снова на другой день они исчезли. Пробегав еще несколько дней к забору впустую, Катерина поняла наконец, что это бесполезно.
Васька появился неожиданно: в декабре, когда Москва уже была засыпана снегом и приютский сад стоял неподвижный, белый, а замерзший пруд можно было угадать только по нескольким пожухлым палкам рогоза, торчащим из-под снежного покрова. В приюте царила обычная лихорадка, начинавшаяся за несколько недель до рождественских праздников, спешно шились подарки для покровителей приюта, старшие воспитанницы были завалены заказами: работы приютских были известны в городе, и у них охотно покупали изящно вышитое белье, платки и блузки. Катерина вместе с другими старшими, освобожденными на эти дни от занятий, не поднимала головы от шитья и вставала от рабочего стола с синими и зелеными пятнами перед глазами. Их давно уже не наказывали даже за серьезные провинности: не было времени подпирать печку. Мастерицы, захваченные работой, отказывались даже выходить гулять, но после того, как однажды блондинка Таня Сенчина, поднявшись из-за стола, упала в обморок, старшеотделенок стали насильно отрывать от их батистовых рубашек и наволочек и выпихивать в сад.

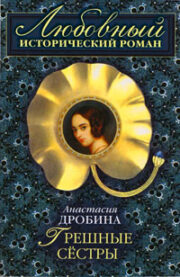
"Грешные сестры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Грешные сестры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Грешные сестры" друзьям в соцсетях.