В американском посольстве устраивали прием в честь Генри Киссинджера, который приветствовал Эрнеста Уэкслера как старого друга и несколько минут любезно поболтал с Кристиан. Сделал комплимент по поводу ее платья — шикарного произведения Зандры Роудс, сшитого из полос ярких павлиньих оттенков со сверкающими золотыми гранями — и ее совершенного немецкого языка. Кристиан очень нравился этот человек. Сейчас она сожалела о том, что надела туфли на таких высоких каблуках.
Уэкслера этот прием, казалось, вновь вернул к жизни и омолодил. Он с видимым удовольствием расхаживал по огромному залу, болтал со своими знакомыми, пил много шампанского. Кристиан вспомнила внезапный страх, который она ощутила в соборе, и решила, что скорее всего это сказалось действие музыки.
Однако примерно через час Уэкслер подошел к ней, беспокойный, нервный, с лихорадочным румянцем на щеках, и сказал, что хочет уйти.
— Мне здесь надоело. Поехали к Аннабел. Тебе, я вижу, тоже скучно.
Сидя в машине, Кристиан с легкой усмешкой представила себе, как бы она среагировала три года назад, если бы ей сказали, что в один вечер она встретится с принцессой Маргарет и с Генри Киссинджером и при этом кому-то покажется, что ей скучно.
У Аннабел их ждал очень удобный столик — не слишком близко, но и не очень далеко от маленькой танцевальной площадки, где в полной темноте извивались, сплетаясь воедино, прекрасные пары. В ведерке со льдом стояла бутылка шампанского.
Джон пододвинул Кристиан кресло, помог сесть.
Руки ее похолодели, по коже пробежали мурашки. Она снова почувствовала все тот же безотчетный страх. Усилием воли заставила себя успокоиться. Перевела взгляд на сверкающие медные колонны, отделявшие обеденный зал от бара, потом — на ловкие руки официанта, извлекавшего пробку из бутылки.
Уэкслер поднял бокал. Чокнулся с Кристиан. Заговорил так, будто Джона с ними не было.
— Я хотел, чтобы этот вечер стал чем-то особенным.
Нам придется расстаться на некоторое время, моя дорогая. Я не очень хорошо себя чувствую.
— Да, я заметила.
Кристиан почувствовала, как страх сконцентрировался, превратился в твердый комок в груди. Сделав над собой усилие, она заговорила легким, спокойным тоном:
— Надеюсь, ничего серьезного?
Он сухо усмехнулся:
— Ничего такого, с чем нельзя было бы справиться.
Просто это очень нудно и унизительно. Я не привык болеть.
— Вам придется лечь в больницу?
— Нет, конечно. Не выношу больницы.
Он с наслаждением отпил шампанского из бокала.
— Никого не следует вынуждать жить без шампанского.
— Что, вам придется отказаться от вина? Что-нибудь… с печенью?
Он улыбнулся.
— Нет, моя дорогая. У меня крепкая печень. Удивительно крепкая при нынешних обстоятельствах. И у меня нет ни малейшего намерения отказываться от вина, пока я жив. Просто я уезжаю… на давно заслуженный отдых.
— Куда же вы поедете?
Он все так же улыбался.
— Туда, где потеплее, разумеется.
Потом он пригласил ее танцевать. Кристиан показалось, что все мельчайшие подробности этого танца запечатлятся в ее памяти навсегда, словно выжженные в мозгу. Они танцевали под песню Франсуазы Харди, и Уэкслер тихонько подпевал на французском языке. Рука его, лежавшая на талии Кристиан, казалась слишком легкой, почти бесплотной и, уж во всяком случае, неспособной пронести Кристиан через весь дом, чтобы она не запачкала кровью его ковер.
В диско-будке девушка с длинными прямыми волосами цвета меда наклонилась над вращающимися дисками.
Вскоре после танца Уэкслер заявил, что устал, да и шампанское кончилось. Часы показывали половину второго ночи.
Мартин высадил Кристиан и Джона у их дома на набережной Челси. Уэкслер помахал им на прощание, изогнув губы в иронической улыбке. Потом обернулся к Мартину, коснувшись пальцами своих усов. Это было последнее, что запомнилось Кристиан.
«Дорогая, дорогая моя Кристиан!»
Письмо принесли на подносе с завтраком, вместе с тремя приглашениями, счетом из магазина «Хэрродс» и напоминанием от дантиста о том, что подошло время очередного осмотра.
Кристиан смотрела на буквы, написанные четким решительным почерком черными чернилами на плотной веленевой бумаге.
«Это прощальное послание. Я больше не могу игнорировать живущего во мне врага, так как на этой стадии доза лекарств, помогающих справиться с болью, может выйти из-под контроля. Поэтому мы больше не увидимся, дорогая. Я имею в виду, в этой жизни. Что же касается другой жизни, то я никогда не верил в ее существование.
Если я ошибаюсь, значит, мне суждено провести свой долгий и давно заслуженный отдых в жарком климате, так как моя земная жизнь во многом заслуживает сурового порицания.
Как бы там ни было, я ни о чем не сожалею. По крайней мере в том, что касается меня лично. Хотя, должен признаться, дорогая, прошлой весной в Аннеси ты заставила меня кое о чем задуматься. Ты сказала тогда, что деньги и власть — это еще не все в жизни. А я заверил тебя, что ничего другого не существует.
Возможно, я оказал тебе плохую услугу, выдав замуж за Джона Петрочелли. Сейчас, столкнувшись с неизбежным доказательством собственной смертности, я о многом передумал. Могу лишь сказать в свое оправдание, что в то время я был убежден, что поступаю правильно.
Мне и в голову не приходило, что я пытаюсь исправить одну несправедливость с помощью другой. Или, по сути, подменяю одну ловушку другой.
Сейчас я хочу попытаться исправить то, что я сделал, Кристиан. Но сделать это я могу единственным известным мне способом. Извини, если этот способ покажется тебе не слишком тактичным, и не забывай, что я всего лишь старый дряхлый торгаш.
Я взял на себя смелость открыть на твое имя счет в банке «Кредит-Суиз», в Цюрихе. Детали на прилагаемой карточке. Это номерной счет, и я перевел на него три с половиной миллиона швейцарских франков, что по нынешнему курсу составляет примерно миллион американских долларов. В банке тебе надо связаться с герром Бернардом Вертхаймом. Он ждет твоего звонка.
Оставляю тебе эти деньги без каких-либо условий или ограничений. Лишь с благословением. Ты можешь покинуть Джона или остаться с ним — как пожелаешь. Ты теперь вольна жить так, как захочешь. Надеюсь, это будет долгая и интересная жизнь.
Прощай, моя дорогая. Желаю счастья. И спасибо тебе, что позволила мне провести последний год жизни в твоем обществе. Могу только добавить, что если бы я был способен полюбить кого-нибудь в этой жизни, то это, несомненно, была бы ты».
Письмо было отправлено накануне, а написано задолго до того события, которое, как теперь поняла Кристиан, явилось хорошо инсценированным прощальным вечером, где «Реквием» Берлиоза был даром уходящему.
Часы показывали половину девятого. Кристиан резко отодвинула поднос с нетронутым завтраком, не заметив, что кофе пролился ей на юбку. Вскочила, не умываясь, не причесываясь, накинула на себя первое попавшееся платье и побежала вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. По дороге захватила сумочку со стола в холле, выбежала на улицу, помчалась к гаражу так, как будто за ней гнался сам дьявол. Единственной мыслью была слабая надежда, что он ошибся и что она может еще успеть.
Однако Кристиан по опыту знала, что Эрнест Уэкслер никогда не ошибался. Она безнадежно опоздала.
Она мчалась через весь Лондон на бешеной скорости, проклиная час пик и нескончаемые потоки машин. Через двадцать минут ее машина со скрежетом затормозила у высокого узкого дома. Кристиан взглянула вверх на ряды окон, которые, словно пустые глаза, ничего ей не говорили. С силой нажала на звонок. Сейчас, как всегда, выйдет Пьер, спокойный, бесстрастный, и скажет, что мистер Уэкслер мирно завтракает наверху и разговаривает по телефону с Монте-Карло, или с Тегераном, или с Вашингтоном. Однако Пьер не появлялся. Кристиан, внезапно похолодев, вспомнила, что Пьера накануне отослали в Монте-Карло привести дом в порядок к возвращению хозяина. А служащие офиса не появятся раньше половины десятого.
Она сделала глубокий вдох, достала из сумочки связку ключей. Дом был оборудован как неприступная крепость — со множеством замков, кодами, сигнализацией, но Кристиан когда-то жила здесь и знала все коды.
И ключи все еще лежали у нее в сумочке.
Стальная входная дверь со стуком захлопнулась позади нее. Кристиан стояла в холле, прислушиваясь. Дом казался вымершим.
— Мистер Уэкслер! — позвала она. — Это я, Кристиан.
Голос прозвучал непривычно громко в тишине пустого холла.
Она заглянула в гостиную, потом в столовую, где стоял телекс и целая батарея телефонов — эта комната часто использовалась как коммуникационный центр, — потом прошла в малый офис, где когда-то она впервые обедала в этом доме. Как давно это было…
Медленно, едва передвигая ноги, поднялась она по лестнице, держась внезапно вспотевшими руками за перила. Сердце гулко стучало в груди. Огромным усилием воли она заставила себя войти в спальню.
Там было пусто.
Кристиан медленно огляделась. Как и следовало ожидать, в комнате царил идеальный порядок. На нетронутой кровати лежала шелковая пижама и аккуратно сложенный халат, рядом так же аккуратно стояла пара комнатных туфель. Одеяло чуть отогнуто — для хозяина, который так и не появился… Шторы на окнах опушены, лампа на ночном столике включена, и свет ее направлен на небольшую кипу газет и журналов.
Кристиан прошла в гардеробную, примыкавшую к спальне. Старомодное гладильное устройство, гардероб из красного дерева, заполненный костюмами самых различных цветов и покроев, пригодных для любого случая, любого времени года, любого климата, в любой точке земного шара. Костюм для официальных утренних приемов — с черным смокингом и полосатыми брюками, обеденные пиджаки — черные и белые, бархатные смокинги, блейзеры, твидовые костюмы, серые деловые тройки, темно-синие, полосатые. Ряды шляп — котелки, панамы, мягкие фетровые шляпы и даже белый велюровый стетсон с загнутыми полями.

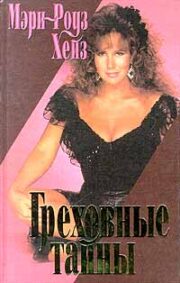
"Греховные тайны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Греховные тайны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Греховные тайны" друзьям в соцсетях.