Физически я вполне годилась для того, чтобы выступать на сцене. Но, сомневаясь в своем будущем успехе, я сделала ставку на глубинное познание ритма, ударных тактов человеческих желаний.
В юности я подбирала забытые Элизабет предметы. У меня была небольшая коллекция. Шелковое белье. Украшения для волос, два из них золотые. Губная помада. Черные туфли на высоких каблуках. И тому подобные мелочи. Я редко пользовалась этими вещами, просто держала их у себя.
После Оксфорда, где я изучала английскую словесность, я получила скромную должность в небольшом издательстве. Я делала успехи, но старательно скрывала то, чем владела, и не спешила предстать во всей своей красоте.
Как и все по-настоящему красивые женщины, я одевалась очень просто. Я знала, что, усиливая эффектность моей и без того яркой внешности или подчеркивая достоинства моей фигуры, рискую выглядеть попросту вульгарно. Мне необходимо было всеми силами избегать какой бы то ни было драматизации и оттачивать ум, расставляя сети уловок, в которые неминуемо попалась бы жертва.
У меня был самый скромный, но элегантный гардероб, летом я чаще всего носила темные или же белые платья, а зимой я предпочитала неяркие кремовые оттенки (очень любимые мной) или же черные одежды с красными вкраплениями. Аксессуары к своим туалетам я покупала в самых дорогих магазинах и старалась, чтобы они были в отличном состоянии. Но темный цвет и классическая форма моей сумки, например, отвлекали внимание от того факта, что она стоит больше моей месячной зарплаты.
Моя внешняя скромность вводила в заблуждение коллег-женщин. Мужчины, с которыми я сталкивалась на работе, находили, что их внимание ко мне встречает слишком слабый отклик, и, несмотря на ореол таинственности, которым я была окружена, рано или поздно отступали. Разочарованные, но не утратившие чувства собственного достоинства.
Втайне от своих коллег я стала подумывать о создании своего небольшого дела на базе издательства моего отца. Мне предстояло многому научиться.
Я провела неделю в Лондоне, поселившись в уютной квартирке, в доме, расположенном в тупике позади Харродса. Об этом никто не знал. Многие предполагали, что я живу не только на зарплату, но мое финансовое положение оставалось тайной. Я исходила из этого и исхитрялась вести светскую жизнь, не пересекаясь с Элизабет. Мне казалось, что я хорошо контролирую свою жизнь.
Элизабет удивляла меня. Она не была красива. В детстве ее внешность — золотые волосы, тонкие черты лица — была многообещающей, но с годами она поблекла, и Элизабет не пыталась хоть как-то бороться с этим. Она была высокого роста, в отца, стройна и длиннонога. Одежда строгого покроя подчеркивала ее широкие плечи, налитые почти мужской силой.
Я тщательно подбирала себе стиль одежды, исходя из только мне понятных соображений. Элизабет не была привередлива, но при этом простота ее нарядов мозолила глаза. Она носила черные блузки из хлопка или шелка и джинсы или брюки. Если она выходила вечером, то неизменно в вельветовом или шелковом жакете и длинной юбке, что делало ее похожей на индонезийскую женщину, закутанную в саронг. Днем она зачесывала волосы назад и подхватывала их заколкой. По вечерам она надевала шиньон. Подобный стиль держится уже многие годы и в наше время очень распространен.
После Школы искусств, где Элизабет отнюдь не блистала, она обосновалась в просторной квартире в Кенгсингтоне, которая одновременно служила ей студией, и занялась живописью. Она писала исключительно небо, что не вызывало никакого интереса, редко выставлялась и, на мой взгляд, была совершенно бездарна.
У нее было мало друзей. Она общалась по преимуществу с художниками. Однако еще со школьных лет она сохранила дружеские связи с Баатусами, известной респектабельной семьей, владевшей многими банками. Мари Баатус часто приглашала Элизабет в Париж или на Луару, в замок, принадлежавший ее семье. Элизабет с детским восторгом принимала эти приглашения. На проявленное по отношению к ней гостеприимство она отвечала тем, что время от времени зазывала Мари в Лексингтон. Мари с удовольствием приезжала, ей нравился Лексингтон, и она очень любила озеро. За его «таинственность», как она однажды выразилась.
Лексингтон действительно может казаться укромным загадочным местом. Путь к нему лежит через леса, карабкающиеся по откосам. Он вырастает внезапно, багровый, вознесшийся над холмами. Парк отлого спускается к воде.
Лексингтон — дом и озеро, где протекали многие годы нашей жизни, — был приобретен моим дедом в те времена, когда его дела пошли в гору. «Удачная шахматная партия», — объяснял он.
Дед купил скромное издательство, не приносившее большого дохода, но вполне устоявшееся. Он вывез издательство из старого огромного здания в центре Лондона, где оно помещалось, и сумел пустить в оборот так называемое недвижимое имущество. Положив в банк крупную сумму, полученную за продажу помещения, дед закрыл за три года шесть нежизнеспособных журналов, а другие преобразовал и прибавил к ним два совершенно новых издания. Он создал издательство «Альфа». Мою бабушку звали Алексой. Двум своим дочерям она дала имена Астрид и Алин. Отсюда и название издательства. «Начало всему — альфа», — шутил дед.
После смерти дедушки не знаю, от горя или от радости, бабушка решила покрасить серый каменный дом в красный цвет.
Дед и отец каждую неделю приезжали в Лексингтон из Лондона на выходные дни и проводили время за рыбалкой, охотой и картами. Лексингтон наполнялся мужскими запахами, просмаливался смехом, и все это волновало меня. Даже цвет стен менялся, и краснота становилась особенно яркой, победной. Когда мужчины уезжали, стены снова становились кровавыми, с проступавшими кое-где черными подтеками.
5
Меня никогда не интересовали красивые мужчины. И не потому, что я считала их пустыми, неспособными на глубокое чувство людьми. Нет. Я знала, что природа не так уж щедра и что, наделив человека неотразимой внешностью, она наверняка сэкономила на других его качествах.
Элизабет было двадцать лет, когда в один из летних дней в Лексингтоне появился тот, из-за которого участились ее визиты во Францию. Губерт Баатус.
Он с широкой улыбкой пересек лужайку и направился к моему шезлонгу. Его лицо представляло собой идеальное соотношение линий, теней и света и являлось воплощением мужской красоты.
В его внешности не было ничего оригинального. Я намеревалась соблазнить возлюбленного Элизабет. Этот план возник сразу же, как только я его увидела. Банальность подобного замысла не могла смягчить той боли, которую должна была испытать при этом Элизабет.
Я улыбнулась сквозь яркие солнечные лучи и протянула ему руку. Как джентльмен, он должен был ее поцеловать.
— Элизабет столько рассказывала мне о вас. Мне не терпелось познакомиться с вами.
— Вы слишком добры, — ответила я.
— Слишком добр? Разве можно быть слишком добрым?
В разговор вмешалась моя гостья, Элен, приехавшая на уик-энд.
— Не надо буквально понимать эту фразу, Губерт. Когда англичане говорят «вы слишком добры», они имеют в виду нечто более общее.
Губерт посмотрел на меня. Он был в некотором замешательстве.
— Мне кажется, я правильно понял то, что хотела сказать Рут. Я говорю немного топорно. Мой английский… такой неуклюжий.
— Да нет, ваш английский очарователен, — сказала я.
— О, да, очарователен. Теперь я понимаю, что подразумевают англичане под словом «очаровательный». Так сказать, все нюансы.
Он засмеялся. Элизабет улыбнулась.
— Возможно, года три или четыре Губерт проведет в Лондоне, — сказала она.
— Правда? А что вы там будете делать? — поинтересовалась я.
— Мы открываем филиал Банка в Лондоне. Перед тем как вернуться в Париж, я какое-то время буду занят этим.
— Вы думаете, вам понравится жить в Англии?
— О, да. Я уверен в этом.
И он взглянул на Элизабет.
— А прежде вы бывали в Лондоне? — не унималась я.
— Я часто бывал в Лондоне, но никогда не задерживался надолго. Я люблю Лондон. Лондонские театры — лучшие в мире. Но, кажется, я уже перешел на лесть…
— Мы любим, когда нам льстят.
Элен тоже улыбнулась ему. Ее ум был бессилен против его очарования.
Элизабет сияла. Что привлекало его в ней? Может быть, душа? Существует ли столь тонкий инструмент, который позволил бы ответить на этот вопрос? Насколько серьезно они относились друг к другу? Элизабет? Очень серьезно. Губерт?
— Рут.
Я вздрогнула и обернулась на зов матери.
— Рут, дорогая. О чем ты задумалась? Мы идем на террасу. Все готово для ленча.
Элизабет и Губерт направились к дому. Я наблюдала за ними. Он обнял ее за талию, она повернулась к нему. Ее взгляд словно освещал дорожку. Обыкновенный летний вечер.
Я плелась позади. На них падала моя тень. Они остановились и, улыбаясь, смотрели на меня. Я подошла и встала рядом с Губертом.
— Надеюсь, вы будете бывать в Лексингтоне, когда обоснуетесь в Англии.
— Губерт приедет через месяц, — сказала Элизабет.
— Вы уже присмотрели себе дом в Лондоне?
— Нет. Компания предоставит мне квартиру. В Мэйфэере. Первое время я буду жить там.
Мы подошли к дому. Ленч был сервирован на террасе. Буфет отливал почти альпийской белизной — чистота была пунктиком моей матери, — и складки скатерти струились с узкого стола на серые камни террасы. Я наблюдала за тем, как Губерт ел. Он был очень голоден, но старался это скрыть. И поэтому держался скованно. Элизабет улыбалась, слушая, как он расхваливает вино, на которое приналег, впрочем, без каких бы то ни было последствий. Думаю, он знал свою норму и сумел вовремя остановиться.
Элизабет воспринимала еду как забаву. Она ничего не пила. Она не могла бы ходить по краю пропасти. И в ее живописи не было чувства опасности, риска, напряжения всех сил. Губерт словно прочел мои мысли. Он сказал:

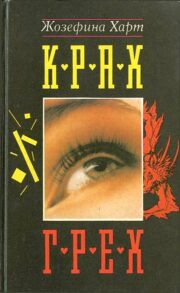
"Грех" отзывы
Отзывы читателей о книге "Грех". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Грех" друзьям в соцсетях.