Была ли эта безмятежность ошибкой? Или следует ее одобрить?
18
Я записывала все, что узнавала о Чарльзе Гардинге. Меня занимали малейшие детали. Казалось, что в его плотном теле вообще не было полостей. Он был монолитен, словно статуя. Его ноги навевали мысли не о скорости, а о мощи. Стоя у окна, он полностью застилал солнце.
Когда он разговаривал с кем-либо, я чувствовала это всей кожей. Когда он обращался ко мне, все плыло у меня перед глазами.
Иногда, глядя на него, я вспоминала историю, рассказанную Элен. Мне очень хотелось побольше узнать об этом, но я не могла.
— Элизабет так ждала вашего приезда.
Чарльз и Элизабет пригласили нас в Фримтон Мэнор.
Доминик вытаскивал наши вещи из машины.
Элизабет, улыбаясь, раскрыла свои объятья. Стефан бросился к Вильяму.
Поцелуй Элизабет.
— Чарльз говорит правду. Я так радуюсь, когда вы приезжаете к нам.
Иногда радость Элизабет заставляла меня содрогаться от отвращения. В буквальном смысле. Я чувствовала гадливость.
— Но ведь мы часто видимся в Лексингтоне. В выходные дни.
— Да. Да. Но… тут… это совсем другое дело. Настоящий праздник.
Чарльз был в прекрасной форме. Теперь «великий могол» проводил в офисе четыре дня в неделю. «Одурманенный», — прочла я в журнале, ожидая приема у врача, — «одурманенный чарами своей новой жены, художницы Элизабет Эшбридж».
Элизабет Эшбридж совсем не художница. Я посетовала на глупость журналиста. Элизабет Эшбридж — благоразумный знаток живописных небес.
Мы сели за стол — нас породнила кровь, любовь, ненависть, то, что во все времена сталкивало людей. Мы пили за успех Доминика, того, кто оставался в моей жизни дольше, чем я предполагала. Он успел стать самым молодым главой правительственной статистической службы.
— Ты можешь гордиться им, Рут.
— Чувства Рут, как и многое другое, связанное с ней, трудно понять, — заметил Доминик.
— О, по натуре она очень страстный человек-Элизабет сняла очки.
Чарльз обратился ко мне:
— Рут, теперь Вильям подрос. Вы как-то упоминали о своем желании возглавить отдел в издательстве. Вы не раздумали?
— Возможно. А почему вы спрашиваете?
Я хотела бы по-другому поговорить с ним. Не прибегая к словам.
— Рут, у тебя столько идей. Ты хотела издавать разные книги. Чарльз прав. Это будет…
Элизабет уговаривала меня.
Кто вы, чтобы знать, что будет хорошо для меня? Как вы смеете решать что-то за меня? Вы, двое. Супруги. Ради моего блага.
— О, вам кажется, что все это так просто. Но, по-моему, Доминик не так в этом уверен… а, дорогой?
— Рут, что бы она ни делала, всегда хочет блистать. В этом нет никакого сомнения. Идея, несомненно, заманчивая. Но стоит немного подождать — Вильям еще маленький, и Рут так нравится быть рядом с ним, — откликнулся Доминик.
— Рут, а какую книгу вы хотели бы опубликовать первой? Какой-нибудь смелый роман новомодного писателя? — спросил Чарльз.
— Вовсе нет.
— Почему?
— Таких книг полным-полно.
— Признаюсь, вы меня удивили.
— Я постоянно стараюсь… чем-нибудь удивить вас.
— Но… — вмешался Доминик.
— Рут просто дразнит вас.
О, сладкоречивая Элизабет.
— Да нет. Я бы переиздала какие-нибудь диковинки: «Законы Спарты» или «Дневник интимной жизни» — небольшие карманные книжечки. Первой я выпустила бы «Энциклопедию преисподни».
Молчание. Никто не улыбнулся — ни Элизабет, ни Чарльз.
— Я не знаю этой книги.
Конечно же, ты не знаешь, Элизабет.
— Она представляет интерес? — спросил Чарльз.
— Да.
Мой муж пристально смотрел на меня.
— У вас оригинальное мышление, Рут, — произнес Чарльз.
— Что вы, Чарльз. Мне всегда казалось, что во мне нет ничего необычного.
— Это не так. Если вы когда-нибудь захотите реализовать этот план, я вам помогу. Но мне интересно, хотите ли вы преподнести публике то, что отвечает вашему вкусу, или же вы следуете пристрастиям читателей, о которых хорошо осведомлены.
— А как вы думаете, Чарльз?
— Я скорее предположил бы первое.
— Вы, Чарльз, хорошо понимаете Рут, — услышала я голос Доминика.
— Не лучше, чем вы, Доминик.
— Оригинальность мышления — это то, что в глубине души нас всегда притягивает.
— Доминик прав, — сказала Элизабет.
Что ты знаешь о тайнах души, Элизабет? Ты, которую на протяжении многих лет я ненавидела? Ничего.
— Ну, я дольше, чем кто-либо, знаю Рут. Тщательнее всего она старается скрыть свои таланты… потому что она…
Доминик засмеялся. Или, точнее, издал резкий отрывистый звук, словно привел в движение механизм, сымитировавший то, что мы обычно называем смехом. Прерывистое дыхание… с силой прогоняемый через легкие воздух. И все это, чтобы скрыть свою боль. Неискренний смех.
— О, по-моему, я слышу шум машины.
Чарльз поднялся. Мои родители обедали с каким-то другом отца по полку, жившим неподалеку. Они должны были прибыть к чаю.
— Пойдемте в сад. Посмотрим, чем заняты мальчики.
Мы превратились в зрителей. Мы смотрели, как мелькают их сильные крепкие ножки. В ушах звенели крики, от которых кровь могла бы застыть в жилах, если бы мы своими глазами не видели, что мальчики резвятся, заливаясь смехом.
Тела, потные и грязные, обрушились на нас. Мы выдержали натиск, и вот они уже снова вступили в единоборство.
— Я был в Нави.
Чарльз ответил на вопрос, который задал ему отец.
Мы шли назад к дому. Была годовщина дня заключения перемирия, положившего конец первой мировой войне.
Отец улыбнулся Чарльзу. Все молчали. Мой отец провел в плену год. Он был пилотом. Он никогда не говорил об этом. Его старший брат был убит под Берлином. Его звали Майкл. Когда мой отец произносил это имя, мне всегда казалось, что он приветствует призрак.
— Да, я стал совсем старым.
Он вздохнул. Мы вошли в дом.
— Я должен воспользоваться случаем и… оплакать погибших. Теперь мы можем оценить ту жертву, которую они принесли во имя сегодняшнего дня. Они покрыли себя славой.
Мне показалось, что отец хотел высказать все то, что он думает о жизни, словно он собирался покинуть нас.
Позже Доминик лежал рядом со мной. Длинное обнаженное тело. Плотное и тяжелое. Мужчины небрежно обращаются с простынями. Женщины воспринимают простыни как украшение. Когда нагота надвинулась на меня, я подумала о хореографии. Мой холодный взгляд. Сомнения. Я спрашивала себя, неужели он находит покой в моем холодном взгляде.
19
Элизабет решила, что было бы слишком жестоко сообщить мне по телефону о внезапной кончине моего отца, умершего от сердечного приступа. Она прислала Чарльза. В четыре часа утра. Она знала, что Доминик уехал в Америку повидать своих родителей и взял с собой Вильяма. Она знала, что я была одна в доме.
Она сама предоставила мне шанс. Ее доверие и доброта подарили мне шанс. И я должна была им воспользоваться. Побороть шок, преодолеть боль. Отложить горе. В ту минуту мне было необходимо узнать этого человека — мужа Элизабет — и через него пробиться к ней.
Чарльз хотел утешить меня. Он склонился надо мной, и я прочла симпатию в его глазах. Мне показалось, что это не просто симпатия. Это моя вина. Он наклонился, и я резким движением заставила его упасть всей своей тяжестью на меня. Мое горе, мое желание разбилось о стену.
Когда я открыла глаза, на его лице проступило то, что должно было привести меня к триумфу. Он хорошо знал себя. Я увидела это. Опыт прошлого. Это прошлое — давно похороненное — гнало его навстречу мне. Он нуждался в чувстве греха. Только оно могло проложить мост в прошлое.
Медленно я открыла дверь в мою гардеробную. Он пошел за мной. Вниз по ступенькам. Я знала, что он поступит именно так. Не пытаясь прикрыть свою наготу, я шарила в поисках шелковых трусиков Элизабет — приманки, над которой не были властны годы. Мне казалось, что я вижу Элизабет. Она, словно привидение, стояла рядом со мной.
Я легла на пол. Он встал на четвереньки и жадно схватил меня за волосы. Как будто собирался сожрать их. Оторвавшись друг от друга, мы забились в разные углы тесной комнатки. Мысль об отце пронеслась в моей тяжелой голове. И исчезла. Я подумала, что еще до моего рождения все было кончено для нас. Застарелое бешенство уничтожило боль, родившуюся во мне. Я понимала, что теперь уже слишком поздно. Мой взгляд наотмашь ударил Чарльза, пробил брешь в его броне, и он, словно загипнотизированный, шагнул ко мне.
Я взяла неношеную черную туфлю Элизабет и лизнула каблук. И протянула ее ему. И снова легла на пол. Я пристально смотрела на нависшее надо мной лицо. Он медленно провел по моему телу каблуком туфли Элизабет. Он колебался. Я приподнялась. В его глазах был страх. Мне хотелось ободрить его. Осторожно, словно во сне, он подчинился моей воле. И впервые я заплакала, подумав о том, что я делаю. Изменяю себе, волоку Чарльза в мир ужаса и восторга, толкаю его навстречу притаившемуся року, лик которого вот-вот проступит под его пальцами.
Произошло то, что было мною задумано. Элизабет лежала в одних черных трусиках. Я не позволила ему прикоснуться к ним. Давно позабытое мной, приди. Я — не я.
Я приняла душ и оделась. В платье Рут. Мы молча доехали до больницы. Я поцеловала мать. Трудно представить себе кого-либо, кто с таким благородством нес бы свое горе. Элизабет протянула ко мне руки, крепко сжала меня в объятьях. Она утешала меня. Возможно, в этом было признание того, что это был мой отец, мой родной отец. А не ее. Она была слишком деликатна, чтобы сказать об этом.

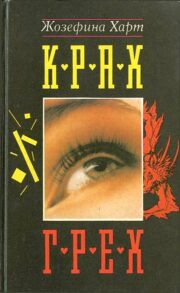
"Грех" отзывы
Отзывы читателей о книге "Грех". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Грех" друзьям в соцсетях.