— Ничего тут нет особенного, — насмешливо, тоном горького разочарования, возразила Флеммхен.
— Есть, есть. Это особенное. Хочется сбросить старую шкуру и стать другим человеком, понимаете? Вдруг веришь, что на свете существует только одна-единственная женщина, а все остальные ничего не стоят. Веришь, что никогда не сможешь спать с другой, — только с нею. И все кругом мчится. Как будто тобой вместо снаряда зарядили большую пушку и выстрелили, запустили на Луну или еще куда-нибудь, в такое место, где все совсем по-другому…
— Какая же она, эта женщина? — спросила Флеммхен, и любая на ее месте задала бы этот вопрос.
— Какая? Вот в том-то и штука… Она старая и такая худенькая, такая легкая, что я мог бы поднять ее одним пальцем. У нее морщины, вот здесь и вот здесь. И заплаканные глаза, и говорит она на тарабарском языке, как клоун. Когда слушаешь ее, то и смеяться и реветь готов, честное слово. И все в ней мне так здорово нравится, просто ничего поделать с собой не могу. Это вот и есть большая любовь.
— Большая любовь? Ее вообще не бывает, — сказала Флеммхен. Мордочка кошки сделалась удивленной и упрямой, похожей на цветок анютиных глазок.
— Бывает. Еще как бывает, — ответил Гайгерн.
Его слова поразили Флеммхен, она даже остановилась, на миг перестала танцевать и, тряхнув головой, поглядела на Гайгерна.
— Надо же, какие слова парень знает, — пробормотала она.
Именно в эту минуту взгляд Прайсинга наконец-то выудил искомую молодую особу из эротически медлительного кружения танцующих танго пар. С досадой, нетерпеливо-сурово он дождался окончания длинного танца, а затем предпринял попытку пробраться к столику, за которым теперь сидела Флеммхен в компании двух мужчин. Оба они показались Прайсингу как будто знакомыми. В гостиницах подобные бессловесные знакомства подстерегают вас на каждом шагу, люди задевают друг друга в лифте, встречаются за обедом или в уборной, в баре, вертятся один за другим во входной двери Гранд-отеля, которая каждую минуту то вталкивает людей в отель, то выбрасывает их на улицу…
— Здравствуйте, фройляйн Фламм, — произнес генеральный директор осипшим от волнения голосом.
Из-за смущения поздоровался он грубовато. Прайсинг встал рядом с Флеммхен, но ему тут же пришлось посторониться, чтобы пропустить официанта, который с подносом в руках лавировал между столиков. Флеммхен, прищурившись, оглянулась и не сразу заметила неожиданно появившегося Прайсинга.
— А, господин директор, — приветливо сказала она. — Вы тоже пришли потанцевать? — Флеммхен поглядела на вдруг помрачневшие лица троих мужчин — к подобным метаморфозам мужских физиономий она давно привыкла. — Господа знакомы? — спросила она с небрежным светским взмахом руки — этот жест она переняла у известной актрисы кинематографа.
Впрочем, представить господ друг другу Флеммхен не смогла бы, потому что не знала, как их зовут. Прайсинг и Гайгерн пробормотали что-то невнятное, и генеральный директор с видом собственника уперся рукой о стол. В это время над его головой, качаясь, проплыл опасный поднос с напитками.
— Здравствуйте, господин Прайсинг, — сказал вдруг Крингеляйн, не поднявшись с места.
Из-за неимоверного напряжения у него заболели все до единого позвонки, но он не позволил себе задрожать от страха, согнуться в поклоне, снова стать несчастным бухгалтером из конторы по начислению жалованья. Он расправил плечи, сжал и губы, и зубы, и даже ноздри, отчего на лице у него появилось тупое и злобное выражение, как у жеребца. В этот великий миг Крингеляйн остался на высоте, неведомые силы исходили от его превосходно сшитого черного пиджака, от нового белья, галстука, ухоженных ногтей, — они укрепили его волю. Правда, Крингеляйна едва не вывело из равновесия то, что и Прайсинг изменился: костюм на нем был тот же, что в Федерсдорфе, а вот усы исчезли.
— Не припомню… Простите. Разве мы знакомы? — спросил Прайсинг настолько вежливо, насколько позволяла его скованность в присутствии Флеммхен.
— Да. Я Крингеляйн. Служу на фирме.
— Ах вот как. — Тон Прайсинга стал суше. — Крингеляйн… Крингеляйн… Наш представитель, да? — сказал он, окинув взглядом элегантный костюм Крингеляйна.
— Нет. Бухгалтер. Младший бухгалтер конторы по начислению жалованья. Двадцать вторая комната. Корпус три. Четвертый этаж, — с готовностью, но без всякого низкопоклонства отрапортовал Крингеляйн.
— А-а… — Прайсинг задумался. Ему пока что не хотелось вдаваться в подробности и уточнять обстоятельства необъяснимого и неприятного появления здесь, в Желтом павильоне Гранд-отеля, этого счетовода из Федерсдорфа. — Мне нужно поговорить с вами, фройляйн Фламм, — сказал он и убрал руку со спинки стула, на котором сидела Флеммхен. — Я намерен дать вам машинописную работу, — добавил Прайсинг деловым тоном, который предназначался для ушей субъекта из Федерсдорфа.
— Хорошо. Когда прийти? В семь или в половине восьмого?
— Нет. Прямо сейчас, — отрезал Прайсинг и вытер платком лицо. У субъекта из Федерсдорфа тоже торчал из нагрудного кармана уголок платка, этакий задорный бунтарский шелковый флажок.
— Прямо сейчас, к сожалению, не получится, — любезно ответила Флеммхен. — Я ведь не одна. Я не могу бросить моих спутников. Потом, я же обещала потанцевать с господином Крингеляйном.
— Господин Крингеляйн окажет мне любезность и не станет вас задерживать, — подавляя гнев, сказал Прайсинг.
Это был приказ. Крингеляйн почувствовал, как по его крепко сжатым губам поползла улыбка, угодливая улыбка — результат двадцати пяти лет подневольного существования. Он согнал ее с изможденного и внезапно похолодевшего лица. В поисках поддержки он обернулся к Гайгерну. Барон зажал сигарету в углу рта, дым поднимался вверх мимо прищуренных глаз, в которых угадывалось озорство и понимание.
— Я не желаю отказываться от танца, — сказал Крингеляйн.
Как только прозвучали эти слова, он замер, точно зайчишка, засевший в полевой борозде, который притворяется мертвым в минуту опасности. И вдруг Прайсинг, пристально глядя в ненавистную физиономию этого бухгалтера из Федерсдорфа, отчетливо вспомнил личное дело служащего Крингеляйна, которое читал несколько дней тому назад.
— Очень странно, — сказал он в нос, тоном, который повергал в трепет всех работающих на фабрике. — Очень странно. Но теперь я вас вспомнил. Вы ведь, кажется, числитесь больным. Так, господин Крингеляйн? Ваша жена попросила предоставить ей материальную помощь из нашего фонда, причем сослалась на тяжелую болезнь мужа. И мы предоставили вам полтора месяца отпуска с сохранением содержания. А вы, значит, прикатили в Берлин и развлекаетесь? Предаетесь увеселениям, которые не соответствуют ни вашему положению, ни доходам? Странно. Очень странно, господин Крингеляйн. Ваши бухгалтерские книги будут подвергнуты строжайшей ревизии, можете не сомневаться. И жалованья вам не выплатят, раз вы так хорошо себя чувствуете, господин Крингеляйн. Ваш…
— Детки, не ссорьтесь! Выясняйте-ка отношения у себя на службе, — с обезоруживающим добродушием вмешалась Флеммхен. — Мы пришли сюда, чтобы приятно провести время. Господин Крингеляйн, пойдемте танцевать. Ну, за мной!
Крингеляйн поднялся со стула. Ноги у него были точно из каучука, но как только Флеммхен положила руку ему на плечо, он сразу приободрился. Музыка загремела в бешеном темпе, это было что-то, сравнимое разве что с ездой на скорости сто двадцать километров в час или с шумом пропеллеров. И музыка дала Крингеляйну силы произнести фразу, которую он готовил в течение двадцати пяти лет подневольной жизни. Увлекаемый Флеммхен на середину зала, он обернулся назад, к Прайсингу, и выдавил из себя:
— Вы решили, что весь мир принадлежит вам, господин Прайсинг? А чем вы, собственно, лучше меня? Или у таких, как я, нет права на жизнь?
— Ну, ну, ну! Здесь не место для ссор. Здесь танцуют, — сказала Флеммхен. — А теперь не смотрите себе под ноги, смотрите на меня и пошли Спокойно, спокойно, я вас веду…
— Это просто черт знает что такое, — злобно, трясясь от ярости, начал было Прайсинг, оставшийся возле столика.
Гайгерн, который все так же сидел и курил, вдруг почувствовал странное волнение и что-то вроде товарищеского участия к Крингеляйну и вместе с тем острую, полную презрения неприязнь к толстому, взмокшему от пота директору. «Тебе, дружок, надо бы поставить пиявки», — подумал он. А вслух сказал:
— Пусть уж бедняга порадуется. У него смерть уже на лице проступила.
«Вашего мнения никто не спрашивал», — мысленно оборвал его Прайсинг, но сказать ничего не посмел, потому что инстинктивно почувствовал в бароне превосходство аристократа.
— Я попросил бы вас передать фройляйн Фламм, что жду ее по срочному делу в холле. Если она не придет до шести часов, я буду считать, что наши с ней деловые отношения кончены. — С этими словами Прайсинг поклонился и направился к выходу.
Напуганная суровым ультиматумом, Флеммхен без трех минут шесть прибежала в холл. Поднявшись точно с раскаленной сковороды — ощущение у Прайсинга было именно такое, — он улыбнулся искренне, от души. Он редко улыбался, и потому от улыбки его лицо становилось приятным и удивляло неожиданно добрым выражением.
— Вот и вы.
Ничего умнее он не нашел сказать. Уже несколько часов кряду его душила, жгла и грызла одна мысль: овладеет ли он девушкой. Его опыт с женщинами был небогатым и относился ко временам далекой молодости. О молодых женщинах нового поколения он имел лишь смутное понятие, хотя в мужской компании или в доверительных разговорах во время деловых поездок часто заходила речь о современных молодых девицах, которые, как говорили, с легкостью и без долгих колебаний идут на случайные связи. Прайсинг разглядывал Флеммхен, ее скрещенные ноги в шелковых чулках, стеклянные, под хрусталь, бусы, накрашенные губы, на которых она как раз подновляла помаду, глядя в маленькое зеркальце. Прайсинг терялся, не зная, что в ее беспечной натуре будет за и что — против его намерений.

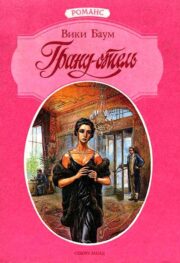
"Гранд-отель" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гранд-отель". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гранд-отель" друзьям в соцсетях.