Узнав достаточно, чтобы начать действовать с уверенностью, мы пригласили искусных музыкантов и разместили их под тем самым окном, у которого сейчас сидим мы с вами. Альберт сидел там, где сидите вы, прислонившись к этой гардине и созерцая закат солнца. Маркус держал его руку, я держала другую. Во время исполнения симфонии, которую по нашей просьбе сочинили для четырех инструментов и в которую вставили разные чешские напевы — Альберт играет их так одухотворенно, так проникновенно, — вдруг раздался гимн Пресвятой Деве, которым некогда вы покорили его сердце:
О Consuelo de mi alma…
В ту же секунду Альберт, который уже был несколько взволнован, слушая песни нашей старой Чехии, разразился слезами, бросился в мои объятия и воскликнул: «О матушка, матушка!»
Маркус велел музыкантам прекратить игру — он был доволен произведенным впечатлением, но на первый раз не хотел им злоупотреблять. Итак, Альберт заговорил, он узнал меня, он вновь нашел силы любить. Прошло еще много дней, прежде чем его рассудок обрел прежнюю ясность, но с тех пор у него ни разу не было горячечного бреда. Иногда он казался утомленным напряженной работой мысли и вновь впадал в мрачное молчание, но мало-помалу лицо его принимало менее угрюмое выражение, и нам удавалось кротостью и осторожностью побороть это стремление замкнуться в себе. Наконец мы с радостью заметили, что потребность в умственном отдыхе начинает исчезать, и работа мысли прекращается у него лишь в обычные часы спокойного сна, такого же, как у всех остальных людей. Альберт вновь обрел ощущение жизни, ощущение своей любви к вам и ко мне, к нему вернулось его милосердие, его привязанность к людям и к добродетели, его вера и потребность помочь ее торжеству. Он продолжал любить вас без горечи, без недоверия и без сожаления о всем том, что ему пришлось из-за вас перестрадать. Но несмотря на все его старания успокоить нас и проявить мужество и самоотречение, мы ясно видели, что страсть его оставалась столь же пылкой, как прежде. Только у него было теперь больше нравственных и физических сил, чтобы ее выносить. Мы вовсе и не пытались бороться с ней. Напротив того, мы оба — я и Маркус — сообща старались вселить в него надежду и решили осведомить вас о том, что ваш супруг, по которому вы свято носили траур, — не снаружи, а внутри, в душе, — что ваш супруг жив. Однако Альберт, движимый великодушным самоотречением и верным чутьем во всем, что касалось вас, запретил нам торопиться. «Она никогда не любила меня, — говорил он, — она просто сжалилась надо мной, когда я был в агонии. Не без страха и, быть может, не без отчаяния дала бы она обещание провести со мной всю жизнь, и если теперь она вернется ко мне, то единственно из чувства долга. Каким же несчастьем было бы для меня похитить ее свободу, радость ее искусства и, быть может, радость новой любви! Довольно и того, что прежде я позволял ей жалеть себя. Не принуждайте меня позволить ей отдать мне преданность, которая будет ее тяготить. Не мешайте ей жить, не мешайте познать радость независимости, опьянение славой и даже большее счастье, если так будет нужно! Я люблю ее не ради себя, и хоть она действительно необходима для моего счастья, я сумею отказаться от него, лишь бы моя жертва пошла ей на пользу! Впрочем, разве я рожден для счастья? И разве имею на него право, когда все кругом страждут и стонут в этом мире? Разве нет у меня других обязанностей, кроме обязанности создавать собственное благополучие? Разве исполнение долга не придаст мне силы забыться и ничего больше не желать для себя самого? Я хочу сделать эту попытку, и, если не выдержу, вы пожалеете меня и постараетесь придать мне мужества. Право же, это будет лучше, чем убаюкивать меня напрасными надеждами и беспрестанно мне напоминать, что сердце мое болит, что оно горит эгоистической жаждой счастья. Любите меня, друзья мои! О матушка, благословите меня и перестаньте говорить о том, что мучительно терзает меня, лишает силы и добродетели! Я хорошо знаю одно, что самая сильная боль, какую я испытал в Ризенбурге, — это та, какую я причинил другим. И я сойду с ума, быть может, умру, ропща на Бога, если увижу, что Консуэло испытывает те же муки, от каких я не сумел уберечь других людей, которые тоже дороги мне».
Здоровье его, по-видимому, совершенно восстановилось, и теперь уже не только моя материнская нежность помогала ему бороться с его несчастной страстью. Маркус и другие руководители нашего ордена с увлечением посвящали его в тайны нашего дела. Он находил тихую и грустную радость в этих широких планах, в дерзких мечтах, а главное — в долгих философских беседах. Правда, взгляды его не всегда совпадали со взглядами его благородных друзей, зато он чувствовал их духовную близость во всем, что касалось глубоких и пылких чувств — таких, как любовь к добру, к справедливости, к истине. Стремление к идеалу, которое так долго заглушали и подавляли в нем узкие и мелкие страхи его семьи, нашло наконец благодатную почву для развития, и здесь, встречая то поддержку, то откровенные и доброжелательные возражения со стороны окружавших его людей, он обрел ту живительную атмосферу, в которой мог дышать и действовать, несмотря на снедавшую его тайную печаль. Альберт — человек глубокого метафизического ума. Его никогда не прельщало суетное существование, где черпает пищу эгоизм. Он создан для созерцания самых высоких истин и для претворения в жизнь самых суровых добродетелей. Но в то же время благодаря совершенной нравственной красоте, весьма редкой у мужчин, он наделен необычайно нежной и любящей душою. Одно милосердие не удовлетворяет его, ему нужны привязанности. Любовь его распространяется на всех, и тем не менее он ощущает потребность сосредоточить ее на отдельных лицах. Преданность доходит у него до фанатизма, но в его добродетели нет ничего жестокого. Любовь окрыляет его, дружбе он отдается целиком, и его жизнь — это плодотворный неисчерпаемый источник благоговения перед абстрактным понятием, которое он называет человечеством, и перед отдельными существами, к которым он питает нежность. Словом, его благородное сердце является очагом любви — все высокие страсти находят там приют и живут, не зная соперничества. Если бы возможно было представить себе божество в виде смертного и бренного существа, я осмелилась бы сказать, что душа моего сына — это прообраз мировой души, именуемой Богом.
Вот почему Альберт — это слабое человеческое создание с его широкими стремлениями и ограниченными возможностями — не мог жить в доме своих родных. Не люби он их так пылко, он мог бы, обитая вместе с ними, устроить себе другую, обособленную жизнь, создать собственную веру — могучую и спокойную, отличную от их веры и снисходительную к их безобидному ослеплению, но это потребовало бы от него известной холодности, которая была так же для него невозможна, как невозможна была она когда-то для меня самой. Он не мог жить, разобщив ум и сердце, и с тоской, с отчаянием искал точек соприкосновения и общности взглядов с этими дорогими для него людьми. Вот почему, стоя один перед глухой стеной их католического упорства, их социальных предрассудков, их ненависти к религии равенства, он разбился, стеная, об их железную грудь и увял, как растение, лишенное влаги, призывая дождь с неба, который даровал бы ему что-то общее с теми, кого он любил. Устав одиноко страдать, любить, верить и молиться, он решил, что нашел жизнь в вас, и, когда вы приняли и разделили его взгляды, он обрел спокойствие и рассудок. Но вы не разделили его чувства, и разлука с вами неминуемо должна была погрузить его в еще более глубокое и более невыносимое одиночество.
Его вера, которую постоянно отрицали и опровергали, превратилась для него в невыносимую пытку. Ум его стал мешаться. Не имея родственной души, которая могла бы помочь ему укрепиться в самом важном и существенном, что оставалось в его жизни, он вынужден был уступить смерти.
Когда же он встретил сердца, способные его понять и сочувствующие ему, всех нас поразила его мягкость в спорах, его терпимость, доверчивость, скромность. Зная его прошлое, мы опасались найти в нем чрезмерную суровость, излишнюю настойчивость в отстаивании собственных взглядов, резкость, простительную для человека с пылким и убежденным сердцем, но способную помешать его собственному совершенствованию и повредить такому союзу, как наш. Он удивил нас ясностью души и прелестью обхождения. Возвышая и окрыляя нас своими беседами и поучениями, сам он был убежден, что все, что дает нам, заимствовал у нас. Здесь он быстро сделался предметом всеобщего и безграничного уважения, и вы не должны удивляться, что столько людей стараются вернуть вас ему, — ведь его счастье стало предметом соединенных усилий, настоятельной потребностью каждого, кто соприкоснулся с ним хотя бы на короткое время.
XXXVI
— Однако жестокий жребий нашего рода еще не завершился. Альберту суждено было продолжать страдать, его сердцу суждено было вечно истекать кровью из-за семьи, которая не была виновна в его несчастьях, но которую злой рок почему-то приговорил постоянно разбивать его жизнь и самой страдать из-за него. Как только силы Альберта окрепли, мы сообщили ему прискорбную весть о смерти его почтенного отца, происшедшей вскоре после его собственной: ничего не поделаешь, мы вынуждены воспользоваться этим странным выражением, чтобы охарактеризовать столь странное событие. Альберт оплакивал отца с нежной, горячей грустью и с твердой уверенностью в том, что, уйдя из жизни, тот не попадет в небытие католического рая или ада. К его скорби примешивалась даже какая-то торжественная радость, ибо он надеялся, что этот чистый, достойный награды человек найдет после смерти иную, лучшую жизнь. Поэтому гораздо сильнее, нежели кончина отца, его удручало одиночество, в каком остались другие его родственники — барон Фридрих и канонисса Венцеслава. Он упрекал себя за то, что вдали от них находит утешения, которыми не может поделиться с ними, и решил вернуться к ним на некоторое время, открыть тайну своего выздоровления, своего чудесного воскресения из мертвых и сделать их жизнь по возможности счастливой. Альберт не знал об исчезновении своей кузины Амалии, которое произошло в то время, когда он болел в Ризенбурге, и которое от него постарались скрыть, чтобы избавить от лишнего огорчения. Мы тоже сочли излишним сообщать ему об этом. Нам не удалось уберечь мою несчастную племянницу от прискорбного увлечения, а, когда мы собирались наказать ее обольстителя, менее терпимое самолюбие саксонских Рудольштадтов опередило нас. Они тайно захватили Амалию на прусской земле, где она надеялась найти приют, отдали ее на волю жестокого короля Фридриха, и этот монарх доказал им свою благосклонность, заключив молодую девушку в крепость Шпандау. Она промучилась там около года, ни с кем не видясь, и еще должна была почитать себя счастливой, что секрет ее позора строго охранялся великодушным тюремщиком-монархом.

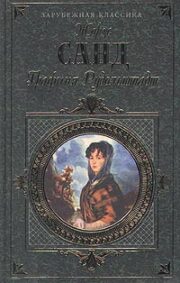
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.