XXXIV
— Благодаря стараниям Маркуса, осведомлявшего меня о мельчайших подробностях событий, происходивших в замке Исполинов, я узнала о решении семьи отправить Альберта путешествовать, о выбранном для него маршруте, и немедленно помчалась в те же края, чтобы встретиться с ним. Я имею в виду тот период странствий, о котором только что вам рассказала, и нередко Маркус сопровождал меня. Гувернер и слуга, которых послали с Альбертом, никогда не видели меня, и поэтому я не боялась попасться им на глаза. Мне так не терпелось увидеть моего сына, что, следуя за ним на расстоянии нескольких часов пути, я с трудом заставила себя не встречаться с ним до Венеции, где предполагалась его первая остановка. Однако я твердо решила показаться ему лишь в обстановке таинственности и торжественности — ведь не только горячее материнское чувство толкало меня в его объятия, нет, у меня был и другой, еще более важный, еще более материнский долг — вырвать Альберта из круга узких суеверных представлений, которыми его пытались опутать. Мне надо было завладеть его воображением, доверием, умом, всей его душой. Я думала, что он ревностный католик, и в этот период он как будто и был им. Он неукоснительно соблюдал все обряды католического богослужения. Лица, сообщавшие Маркусу эти подробности, не знали, что таилось в сердце Альберта. Не больше знали и его отец с теткой. Они могли упрекнуть его лишь в чрезмерно строгом выполнении долга, в чрезмерно наивном и пылком толковании Евангелия. Они не понимали, что благодаря своей строгой логике и полному чистосердечию мой благородный сын, упорно стремившийся исповедовать истинное христианство, уже был страстным, неисправимым еретиком. Меня немного пугал приставленный к нему гувернер-иезуит. Я опасалась, что, подойдя к сыну, буду сразу замечена этим неутомимым аргусом, что он будет чинить мне всевозможные препятствия. Но вскоре я убедилась, что недостойный аббат*** не заботился даже о здоровье Альберта и что мой сын, не видевший ухода также со стороны слуг и не любивший отдавать им распоряжения, был предоставлен самому себе во всех городах, где проводил по нескольку дней. С тревогой следила я за каждым шагом Альберта. В Венеции, остановившись в той же гостинице, что и он, я наконец увидела его одного. Задумавшись, он спустился с лестницы, миновал коридор, вышел на набережную. О, можете себе представить, как забилось при взгляде на него мое сердце, как забурлили во мне все чувства, какие потоки слез хлынули из моих изумленных и восхищенных глаз. Он показался мне таким красивым, таким благородным и, увы, таким печальным! А ведь это было единственное существо, которое мне дозволено было любить на этой земле. Я осторожно пошла за ним. Вечерело. Он вошел в церковь святого Иоанна и святого Павла[172] — в суровый храм со множеством гробниц, который вам, конечно, хорошо известен. Он опустился на колени в углу храма. Я прокралась туда и спряталась за одним из надгробных памятников. Церковь была пуста, мрак сгущался с каждой минутой. Альберт был неподвижен, как статуя, но, казалось, он не молился, а скорее размышлял о чем-то. Светильник на алтаре слабо озарял его лицо. Оно было так бледно, что я испугалась. Остановившийся взгляд, полуоткрытые губы, отчаяние, сквозившее в его позе и выражении лица, надрывали мне сердце. Я дрожала, как колеблющееся пламя светильника. Мне казалось, что, если бы я открылась ему сейчас, он упал бы без чувств. Я вспомнила все, что говорил мне Маркус о его болезненной впечатлительности, о том, как опасны для этой нервной организации всякие внезапные волнения. И, чтобы не поддаться порыву моей любви, я вышла из церкви и стала ждать его у входа. На свое платье, правда очень скромное и темное, я еще раньше набросила коричневый плащ с капюшоном, закрывавшим лицо и придававшим мне вид итальянки из простонародья. Когда он вышел, я невольно шагнула ему навстречу. Он остановился и, приняв меня за нищенку, наугад вынул из кармана золотую монету и протянул ее мне. Ах, с какой гордостью, с какой признательностью приняла я это подаяние! Взгляните, Консуэло, это венецианский цехин. Я велела просверлить в нем дырочку, вдела в него цепочку и всегда ношу на груди как драгоценность, как реликвию. С тех пор этот подарок, освященный рукой моего сына, никогда меня не покидает. Не совладав со своим волнением, я схватила эту дорогую руку и прижала ее к губам. Он с испугом отдернул руку — она была влажной от моих слез.
«Что вы делаете, женщина? — сказал он, и его чистый, звучный голос отдался в самой глубине моего сердца. — Почему благословляете меня за столь ничтожный дар? Должно быть, вы очень несчастны — ведь я дал вам так мало. Что нужно сделать, чтобы вы перестали страдать? Скажите. Я хочу утешить вас и надеюсь, что это будет в моих силах».
И, не глядя, он вынул все золото, какое при нем было.
«Ты дал мне достаточно, добрый юноша, — ответила я, — больше мне не нужно». — «Тогда почему вы плачете? — спросил он, пораженный рыданиями, от которых я задыхалась. — Значит, у вас есть горе, которому бессильны помочь мои деньги?» — «Нет, я плачу от умиления и от радости», — ответила я. «От радости! Значит, бывают слезы радости? И столько слез из-за золотой монеты! О, человеческая нищета! Женщина, прошу тебя, возьми все, только не плачь от радости. Подумай о твоих братьях-бедняках. Их так много, они так унижены, так жалки, а облегчить участь всех я бессилен».
Он ушел вздыхая. Боясь выдать себя, я не решилась следовать за ним. Свое золото он оставил на камне, словно стремясь поскорее избавиться от него. Я подняла монеты и опустила в кружку для милостыни, чтобы исполнить благородное желание моего сына. На следующий день я опять подстерегла его и увидела, как он вошел в собор святого Марка. Я решила быть более сильной и спокойной, и это удалось мне. Мы опять оказались одни в полумраке церкви. Он опять долго размышлял, а потом, поднимаясь с колен, вдруг прошептал: «О Христос! Каждый день своей жизни они распинают тебя!» — «Да, фарисеи и книжники!»[173] — ответила я, прочитав его мысль.
Он вздрогнул, с минуту помолчал, а потом, не оборачиваясь и не пытаясь взглянуть, кто же произнес эти слова, тихо сказал: «Опять голос моей матери!»
Консуэло, я чуть не лишилась чувств, когда услышала, что Альберт помнит меня, что в его сердце сохранилась сыновняя любовь. Но страх повредить его рассудку, и без того сильно возбужденному, снова остановил меня. Я опять вышла и стала ждать его у входа, а когда он прошел мимо, не двинулась с места, радуясь уже тому, что видела его. Однако он сам заметил меня и отступил в страхе.
«Синьора, — сказал он после минутного колебания, — почему вы опять просите милостыню? Неужели это и в самом деле ремесло, как уверяют безжалостные богачи? Разве у вас нет семьи? Разве вместо того, чтобы, как привидение, бродить по ночам около церквей, вы не можете позаботиться о ком-нибудь? Неужели того, что я вам дал вчера, не хватило на ночлег сегодня? Или вы хотите захватить ту долю, которая могла бы достаться вашим братьям?» — «Я не прошу милостыни, — ответила я. — Твое золото я опустила в ящик для бедных, все, кроме одного цехина — этот я хочу сохранить из любви к тебе». — «Кто же вы? — воскликнул он, схватив меня за руку. — Ваш голос волнует меня до глубины души. Мне кажется, что я знаю вас. Откройте ваше лицо!.. Впрочем, нет, я не хочу его видеть, вы внушаете мне страх». — «Ах, Альберт! — вскричала я, потеряв всякую власть над собой, забыв о благоразумии. — Значит, и ты… ты тоже боишься меня?»
Он задрожал всем телом и опять прошептал с выражением страха и благоговения:
«Да, это ее голос — голос моей матери!» — «Я не знаю, кто твоя мать, — возразила я, испугавшись собственной неосторожности, — но мне известно твое имя, потому что оно уже знакомо беднякам. Чем я так испугала тебя? Как видно, твоя мать умерла?» — «Они говорят, что умерла, — отвечал он, — но для меня она жива». — «Где же она?» — «В моем сердце, в мыслях, постоянно, непрерывно. Мне снился ее голос, снилось ее лицо, сто — нет, тысячу раз».
Пылкое чувство, которое влекло его ко мне, восхитило, но в такой же мере и устрашило меня. Я увидела в нем признак душевного расстройства. И поборола свою нежность, чтобы успокоить его.
«Альберт, я знала вашу мать, — сказала я. — Я была ее другом. Она давно поручила мне поговорить с вами о ней, поговорить в тот день, когда вы будете достаточно взрослым, чтобы понять меня. Я не та женщина, какой кажусь. Вчера и сегодня я ходила за вами следом лишь для того, чтобы найти случай поговорить с вами. Выслушайте же меня спокойно и не поддавайтесь суеверным страхам. Согласны вы пойти под аркады Прокураций[174] — сейчас они пустынны — и побеседовать со мной? Достаточно ли вы спокойны, достаточно ли сосредоточены для этого ваши чувства?» — «Вы друг моей матери! — воскликнул он. — Вам она поручила рассказать о себе! О да, говорите, говорите! Вот видите — я не ошибся, внутренний голос предупредил меня! Я почувствовал, что в вас есть что-то от нее. Нет, я не суеверен, не безумен, просто сердце у меня более чувствительно, более восприимчиво к иным вещам, которых многие другие не чувствуют и не понимают. Вы поймете это — ведь вы знали мою мать. Расскажите же мне о ней, расскажите ее голосом, ее словами».
Когда мне удалось немного успокоить Альберта, я увела его в галерею и начала расспрашивать о его детстве, воспоминаниях, о принципах, в которых его воспитали, о том, как он относится к взглядам и убеждениям своей матери. Мои вопросы показали ему, что я посвящена во все семейные тайны и способна понять его сердце. О дочь моя! Какой восторг, какая гордость овладели мною, когда я увидела горячую любовь ко мне моего сына, его уверенность в моем благочестии и добродетели, его отвращение к суеверному ужасу, который внушала моя память католикам Ризенбурга, когда я увидела чистоту его души, величие его религиозных и патриотических чувств, наконец — все те благородные инстинкты, которые не смогло в нем заглушить католическое воспитание! И в то же время какую глубокую скорбь вызвала во мне преждевременная и неизлечимая печаль этой юной души и борьба, которая уже готова была ее надломить, как некогда пытались надломить мою душу! Альберт все еще считал себя католиком. Он не осмеливался открыто восстать против законов церкви. У него была потребность верить в догматы общепринятой религии. Образованный и не по годам склонный к размышлению (ему едва исполнилось двадцать), он глубоко задумывался над длинной и печальной историей различных ересей и не мог решиться осудить некоторые из наших доктрин. Однако под влиянием историков церкви, которые так преувеличили и так извратили заблуждения сторонников нового, он не мог поверить им и был полон сомнений, то осуждая бунт, то проклиная тиранию и делая лишь один вывод — что люди, жаждущие добра, сбились с пути в своих попытках к преобразованиям, а люди, жаждущие крови, осквернили алтарь, стремясь его защитить.

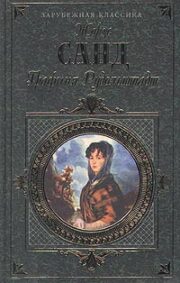
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.