Получив наконец позволение перейти к дальнейшему, Консуэло рассказала, как граф Годиц, угадавший в Пассау, что она женщина, хотел было получить за свое покровительство чересчур высокую плату и как они с Гайдном сбежали, возобновив свое короткое, но полное приключений путешествие на лодке, плывшей вниз по Дунаю.
Затем она рассказала, как они зарабатывали на хлеб, играя — она на свирели, а Гайдн на скрипке, — как крестьяне плясали под их музыку и как, наконец, однажды вечером они набрели на живописное маленькое аббатство, где Консуэло, все еще переодетая мальчиком, назвалась синьором Бертони, цыганом и странствующим музыкантом.
— Каноником этого аббатства, — продолжала Консуэло, — был страстный любитель музыки, человек умный и необыкновенно добрый. Он принял нас, в особенности меня, очень радушно и даже хотел меня усыновить, обещая хорошую бенефицию в случае, если бы я согласилась принять хотя бы низший сан. Принадлежность к мужскому полу начинала мне надоедать. Карьера священника так же мало прельщала меня, как карьера барабанщика, но одно необыкновенное происшествие вынудило меня немного продлить пребывание у нашего любезного хозяина. Некая путешественница, ехавшая на почтовых, внезапно почувствовала предродовые схватки у самых ворот аббатства и произвела на свет девочку, которую покинула на следующее же утро и которую, под влиянием моих уговоров, добрый каноник решил удочерить вместо меня. Ее назвали Анджелой по имени ее отца, Андзолето, и госпожа Корилла, ее мать, уехала в Вену, чтобы домогаться там ангажемента в придворный театр. Она получила этот ангажемент, отняв его у меня. Князь фон Кауниц[80] представил ее императрице Марии-Терезии как почтенную вдову, а я была отвергнута, ибо меня заподозрили в недозволенной связи с Иосифом Гайдном, который брал уроки у Порпоры и жил в том же доме, что и мы.
Консуэло подробно описала свое свидание с великой императрицей. Принцесса с любопытством слушала ее рассказ об этой необыкновенной женщине, в чью добродетель никто не желал верить в Берлине, считая ее любовниками князя фон Кауница, доктора Ван-Свитена[81] и поэта Метастазио.
Консуэло рассказала далее о своем примирении с Кориллой, — оно произошло из-за Анджелы, — и о своем дебюте в главной роли на сцене императорского театра, дебюте, который устроила все та же Корилла, эта странная девушка, почувствовавшая угрызения совести и охваченная внезапным порывом великодушия. Она рассказала также о благородной и нежной дружбе, завязавшейся у нее с бароном фон Тренком в доме посланника в Венеции, и подробнейшим образом описала, как, прощаясь с молодым человеком, она придумала условный знак, с помощью которого они могли бы в будущем поддерживать связь друг с другом, если бы преследования прусского короля вызвали необходимость в конспирации. Этим условным знаком, сказала она, явилась некая нотная тетрадь, причем страницы ее должны были служить оберткой и заменять подпись на тех письмах, которые Тренк собирался посылать Порпорине для передачи их предмету его любви. Вот каким образом, объяснила она, одна из этих страниц и помогла ей понять всю важность таинственного послания, полученного ею для передачи принцессе.
Разумеется, эти подробности заняли больше времени, нежели весь остальной рассказ. И под конец, описывая свой отъезд из Вены вместе с Порпорой и встречу в Моравии, в роскошном замке Росвальд, с прусским королем, переодетым в мундир простого офицера и носившим имя барона фон Крейца, Консуэло вынуждена была упомянуть о важной услуге, которую она оказала монарху, не имея ни малейшего понятия, кому она ее оказывает.
— Вот это мне особенно интересно, — сказала госпожа фон Клейст. — Фон Пельниц, страшный болтун, по секрету сообщил мне, что за ужином несколько дней назад его величество объявил своим гостям, будто его дружеское расположение к прекрасной Порпорине имеет более глубокие корни, нежели мимолетное увлечение.
— А между тем я не сделала ничего необыкновенного, — возразила графиня Рудольштадт. — Я только воспользовалась своим влиянием на одного несчастного фанатика и помешала ему убить короля. Карл — тот самый чешский великан, которого барон фон Тренк вырвал из рук вербовщиков одновременно со мной, — поступил в услужение к графу Годицу. Он узнал короля и решил отомстить ему за смерть жены и ребенка, погибших от нужды и горя после того, как его самого увезли вторично. К счастью, этот человек не забыл, что я тоже способствовала его спасению и когда-то дала его жене немного денег. Он поддался моим уговорам, и мне удалось отнять у него ружье. Король, скрывавшийся в соседней беседке, слышал все — он рассказал мне об этом впоследствии — и, опасаясь, как бы на убийцу снова не нашел приступ ярости, уехал другой дорогой, не той, где намеревался ждать его Карл. Король ехал верхом один — его сопровождал только господин фон Будденброк,[82] — и весьма вероятно, что такой искусный стрелок, как Карл, попал бы в цель; на празднестве, которое в то самое утро устроил в нашу честь граф Годиц, он трижды попал на моих глазах в голубя на шесте.
— Кто знает, — задумчиво произнесла принцесса, — какие изменения вызвало бы это несчастье в европейской политике и в судьбах отдельных лиц! А теперь, дорогая Рудольштадт, я, кажется, знаю конец твоей истории вплоть до кончины графа Альберта. В Праге ты встретилась с бароном — его дядей, который привез тебя в замок Исполинов, и Альберт при тебе умер от чахотки, успев перед этим обвенчаться с тобой на смертном одре. А ты, стало быть, так и не смогла его полюбить?
— Увы, принцесса, я полюбила его слишком поздно и была жестоко наказана за свои колебания и страсть к театру. Порпора, мой учитель, утаил последние письма Альберта, обманул меня относительно его намерений, и вот, решив, что граф уже излечился от своей роковой любви, я по настоянию маэстро выступила в Вене, поддалась обаянию сцены и, ожидая приглашения в Берлин, начала играть в Вене с чувством, похожим на опьянение.
— И с блестящим успехом! — вставила принцесса. — Мы знаем об этом.
— С жалким и гибельным успехом, — возразила Консуэло. — Ваше высочество знает не все. Ведь Альберт тайно прибыл в Вену, он видел мою игру; следя, словно незримая тень, за каждым моим шагом, он услышал однажды, как я сказала за кулисами Гайдну, что не смогла бы отказаться от своего искусства без горьких сожалений. А между тем я любила Альберта! Клянусь Богом, я поняла, что отказаться от него мне было бы еще труднее, чем от своего призвания, и написала ему об этом, но Порпора, считавший любовь химерой и безумием, перехватил мое письмо и сжег его. Я застала Альберта погибающим от скоротечной чахотки. Я отдала ему свою руку, но не смогла вернуть к жизни. Я видела, как он лежал на роскошной постели в костюме средневекового вельможи, прекрасный в объятиях смерти, с челом, спокойным как у ангела Всепрощения, но мне не пришлось проводить его в последний путь. Я оставила его на катафалке в часовне замка Исполинов под охраной Зденко, этого жалкого безумного пророка. Он протянул мне руку, смеясь и радуясь тому, что Альберт спит так спокойно. Именно он, более почтительный, более верный друг, чем я, поставил гроб в усыпальницу предков Альберта, не понимая, что тот уже никогда не встанет с этого ложа успокоения! А я — я уехала, увлекаемая маэстро Порпорой, другом преданным, но суровым, человеком с сердцем отеческим, но непреклонным, с Порпорой, который кричал мне почти над гробом моего супруга: «В ближайшую субботу ты выступишь в “Забавных музыкантах”![83]»
— Да, таковы превратности жизни актрисы! — сказала принцесса, смахивая слезу, потому что Порпорина рыдала, заканчивая свою историю. — Но ты даже не упомянула, дорогая Консуэло, о самом прекрасном поступке в твоей жизни, о том, что мне с восторгом рассказал Сюпервиль. Чтобы не огорчать старую канониссу и не изменить своему романтическому бескорыстию, ты отказалась от титула, от наследства, от имени. Ты потребовала соблюдения тайны от Сюпервиля и Порпоры, единственных свидетелей этой поспешной свадьбы, и приехала сюда такой же бедной, как прежде, такой же цыганочкой, какой была всегда.
— И актрисой до конца своих дней! — добавила Консуэло. — Я хочу сказать — независимой, девственной и мертвой для какой бы то ни было любви. Словом, такой, какою Порпора постоянно рисовал мне идеальный тип жрицы муз! Он победил, мой грозный учитель! И вот я дошла до той ступени, на которой он хотел меня видеть. Но, право, не стала от этого ни более счастливой, ни более талантливой. С тех пор как я никого не люблю и уже не чувствую себя способной любить, во мне больше нет ни огня, ни вдохновения. Этот ледяной климат, эта гнетущая дворцовая атмосфера повергают меня в какое-то мрачное уныние. Отсутствие Порпоры, ощущение заброшенности и прихоть короля, который затягивает мой ангажемент вопреки моей воле… ведь вам, принцесса, я могу признаться в этом, не так ли?
— Как я могла не угадать этого прежде? Бедное дитя, все думают, что ты гордишься предпочтением короля, а в действительности ты его пленница и раба, как я, как вся его семья, как его любимцы, его солдаты, его пажи, как его собачки. Да, таково обаяние королевского титула, таков ореол, окружающий великих государей! Как тяжко это бремя для тех, кто тратит жизнь, доставляя им лучи света и блеск! Однако, милая Консуэло, ты должна еще многое рассказать мне, и кое-что живо меня интересует. Надеюсь, ты откровенно скажешь мне, какие отношения связывают тебя с моим братом, и для этого буду откровенна сама. Считая тебя его любовницей и думая, что ты сможешь добиться помилования Тренка, я искала встречи с тобой, чтобы передать наше дело в твои руки. Теперь, когда — благодарение небу! — мы уже не нуждаемся в тебе для этой цели и я счастлива, что могу любить тебя ради тебя самой, мне кажется, ты можешь сказать мне все, не боясь скомпрометировать себя, — тем более что, по-видимому, брат не слишком преуспел в своих ухаживаниях за тобой…
— Ваш тон и ваши выражения, принцесса, повергают меня в трепет, — ответила Консуэло, побледнев. — Прошла всего неделя с тех пор, как я впервые услышала, как люди вокруг меня с серьезным видом перешептываются по поводу мнимой склонности нашего повелителя короля к его печальной и робкой подданной. До того я никогда не предполагала, что между ним и мною возможно что-либо, кроме оживленной беседы, благосклонной с его стороны, почтительной — с моей. Он выказывал мне дружеское расположение и признательность, каких вовсе не заслуживала вполне естественная с моей стороны услуга, которую я случайно оказала ему в Росвальде. Но отсюда до любви — целая пропасть, и, надеюсь, даже мысленно он никогда не переступит ее!

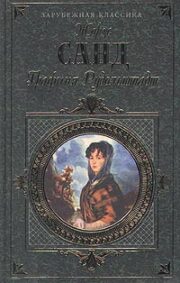
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.