Он быстрой рукой начал вынимать одну за другой черные атласные подушечки, усеянные бриллиантами, небрежно откладывая их в сторону. Рядом с ним стояла баронесса с полуоткрытыми устами, слегка склонясь вперед. Мало-помалу взгляд ее стал принимать торжествующее выражение. Во всяком случае, замечательные драгоценности, заставлявшие биться ее ненасытное сердце, сверкая разноцветными огнями, появлялись из шкатулки, но это были все большей частью старинные украшения, собранные здесь «собирателем», – ни одно из них не напоминало ее изящной диадемы… Неужели же португалец намеренно обманывал ее относительно своего «corpus delicti»?
Но вот значительно медленнее, чем прежде, поднял он футляр и, как бы колеблясь, открыл его крышку. Восклицание изумления сорвалось со всех губ, а прекрасная баронесса, словно пораженная ужасом, отшатнулась назад.
До самых мельчайших подробностей скопированный с украшавшего ее локоны убора, на подушке лежал венок из фуксий, отличавшийся от ее венка лишь одним: «фамильные бриллианты графов Фельдерн» казались потухшими рядом с этим сверкающим украшением.
Футляр тот заключал не один венок – вокруг него лежало то самое ожерелье, которое сияло на белой, тяжело вздымающейся груди Титании, и аграф, придерживавший на ее плече газовое серебристое покрывало, светился здесь, переливаясь всеми цветами радуги.
– Какой постыдный обман! – вскричала прекрасная Титания, дрожа от гнева. – Видишь ли, Флери… – обратилась она к своему супругу, но его превосходительства не было здесь: он стоял у одного из более отдаленных буфетов и залпом пил в это время бокал вина. Могущественный человек становился стар, не показывал более того жгучего интереса, как бывало, к великолепию нарядов своей прекрасной супруги, напротив, ему неприятно, казалось, было видеть ее, сияющую бриллиантами… Она стояла одна среди всех этих злорадных физиономий, и вся неудержимость нрава этой женщины, дававшая себя знать лишь в четырех стенах будуара его превосходительства, казалось, готова была разразиться сейчас на глазах всего придворного общества.
– Флери, Флери! – кричала она с неописуемой досадой. – Прошу тебя, подойди сюда и убедись, насколько я была права, протестуя против излишней чистки камней в Париже!.. Но ты, a tout prix, поставил на своем, и эти вероломные французы воспользовались минутой украсть рисунок… О, лучше бы я никогда не расставалась с ними!
Каждое из этих резких слов должно было оскорбить обладателя бриллиантов… Не мог же он в самом деле оставаться вполне нечувствителен к дерзким выражениям разгневанной женщины? Однако ни единый мускул не шевельнулся на его лице, и на вопрос князя, где приобрел он этот головной убор, он отвечал лаконично: «В Париже».
Министр медленно подошел к группе. Какой контраст между этим мертвенно-бледным, словно из камня высеченным лицом и лихорадочно взволнованными чертами прекрасной Титании!.. Надо было быть очень наблюдательным, чтобы заметить легкое нервное подергивание в сонливо опущенных веках барона.
– Я не могу тебе помочь, милое дитя; раз несчастье совершилось, ты должна утешиться, – сказал он с холодно-спокойной усмешкой и равнодушием дипломата. Он ни единым взглядом не удостоил футляра, который держала графиня Шлизерн, между тем как князь восхищался великолепием камней. – К тому же соперники не могут быть для тебя опасны, – продолжал он, слегка пожимая плечами. – Господин фон Оливейра, как кажется, хранит их ради курьеза, и так как сам он не может их носить, то они едва ли станут тебе поперек дороги.
Она с гневом отвернулась от него. Насколько она его знала, несмотря на свое кажущееся равнодушие, в эту минуту он был ужасно встревожен. Так почему же он не выказывал своего справедливого негодования и, напротив того, к этому мерзкому обману относился как к ребячеству?..
При последних словах его превосходительства взоры всех дам устремились на португальца, пылающий взор которого не покидал лица говорившего… С какой стати вздумалось министру утверждать, что если этот человек сам не может носить камни, то они навсегда осуждены скрываться в этой шкатулке?.. Всем им невольно пришло на ум, что рано или поздно он изберет себе в жены юное счастливое созданье, и как «свое лучшее я» осыплет всеми этими чудными сокровищами…
Вероятно, эта же самая мысль мелькнула и в голове графини Шлизерн. Улыбаясь, она взяла венок с подушки и, прежде чем Гизела успела оглянуться, тяжелые холодные камни лежали уже у нее на голове.
Она и не подозревала, что в эту минуту все присутствующие молча отдавали дань ее красоте и невыразимой прелести; она не заметила, как неукротимый порыв страстной нежности на мгновение озарил строгие черты лица Оливейры. Прекрасная придворная дама стояла тут же и нетерпеливо потряхивала своими темными локонами, в глазах и в опущенных углах рта ее ясно выражалось глубокое негодование – ведь она имела уже право на имущество этого человека, а между тем теперь, пока это право не было еще официально объявлено, ей приходилось быть посторонней зрительницей того, как чудная диадема красовалась на челе другой женщины!.. Мысль, что именно это должна чувствовать красавица фрейлина, промелькнула в голове Гизелы, и она судорожно схватила холодные камни дрожащей рукой, положив их на подушку.
– Что с вами, мое милое дитя? – вскричала испуганная графиня Шлизерн и с участием взяла ее за руку.
– С ней всегда так бывает, Леонтина! – воскликнула торжествующая баронесса Флери, забывая в эту минуту свое собственное огорчение. – Гизела питает отвращение к драгоценным камням, и ты видишь теперь собственными глазами, что одного прикосновения к ним вполне достаточно, чтоб произвести в ней самое сильное нервное возбуждение.
Графиня Шлизерн молча, с крепко стиснутыми губами передала футляр португальцу. Князь, очевидно, желавший видеть этот спорный вопрос о бриллиантах исчерпанным, начал их рассматривать с величайшим интересом; старинные драгоценности стали переходить из рук в руки, между тем Оливейра в коротких словах рассказал их историю, объяснив, каким образом он их приобрел. Затем бриллианты снова были убраны в шкатулку.
– Ну, прекрасная повелительница эльфов, наконец желание ваше исполнилось, – сказал его светлость баронессе Флери, которая стояла в глубокой задумчивости, между тем как Оливейра запирал шкатулку. Князь произнес эти слова полушутливо, но в тоне его слышалось что-то серьезное. – Надеюсь, это не может дурно отразиться на расположении вашего духа, моя дорогая… Не пора ли нам отправиться в буфет, – продолжал он, обращаясь к гостям, – пока эти предательские тучи не загасили наших факелов.
В самом деле, в воздухе слышалось приближение бури. На гладкой зеркальной поверхности озера, спокойно отражавшей свет факелов, появилась теперь небольшая рябь, и из леса доносился глухой шелест листьев; огонь факелов, еще недавно прямо вздымавшийся вверх, беспокойно метался теперь из стороны в сторону.
Среди хлопания пробок, звона стаканов и восторженных тостов, раздававшихся в честь светлейшего хозяина, никто не обратил внимания на этих грозных предвестников бури.
Гизела отказалась идти в буфет. Она надеялась улучить удобную минуту и незаметно скрыться отсюда, однако надежды ее не оправдались! Госпожа фон Гербек ни на шаг от нее не отходила. Маленькая толстушка была сегодня неистощимо любезна и имела очень довольный вид! Его превосходительство только что шепнул ей, что, ввиду его безусловного доверия к ней, завтра утром, перед своим отъездом, он желает «откровенно переговорить с ней»; кроме того, он просил ее сегодняшний вечер строго наблюдать за Гизелой.
И вот она усадила девушку на скамейку, находившуюся близ опушки леса, откуда было видно все собравшееся общество. На другом конце скамейки уселась гувернантка рядом со своей старинной приятельницей, с которой она не виделась уже несколько лет. Дамы велели принести себе кушанья и во время еды не переставали толковать о беспримерном бесстыдстве иностранного выходца – португальца. Это просто какой-то авантюрист, хвастун! – Еще неизвестно, какими средствами приобрел он все эти драгоценности. А впрочем, толстушка была даже уверена, что все это «дрянь» поддельная, камни имеют какой-то неестественный блеск – это может отличить всякий ребенок, сравнив эту мишуру с необыкновенными фамильными бриллиантами графов Фельдерн. А его превосходительство отличнейшим образом отделал этого сумасброда – он даже не удостоил ни одним взглядом ни его самого, ни его хваленые бриллианты.
Словно больной ребенок, откинула Гизела утомленную голову на спинку скамейки. Раздавшаяся музыка заглушила продолжение остроумного разговора… Бедная девушка чувствовала себя совершенно одинокой и глубоко несчастной, сердце ее болезненно сжималось… Сейчас она должна была молча перенести оскорбление, нанесенное ей злобной мачехой; борьба уже истомила ее, да и к чему повела бы эта борьба? – думала она с тупой покорностью и равнодушием… Все эти неудавшиеся попытки… Не все ли равно, что о ней думает свет? И вот сколько времени она сидит тут одна и никому нет до нее дела, все о ней забыли, все, все… А там, в толпе, словно поддразнивая ее, мелькает красная шапочка и, как магнит, влечет к себе померкший взор девушки; и всякий раз, как высокая мужская фигура появлялась рядом с темнокудрой головкой – чего на самом деле не было, она постоянно ошибалась, – сердце ее обливалось кровью и она едва переводила дыхание.
Наконец, она решилась не смотреть туда и медленно откинула голову назад. Широкие влажные листья висящей над головой ветки освежили ее пылающий лоб; она закрыла глаза, но во внезапном испуге тотчас же снова подняла свои отяжелевшие веки.
Португалец стоял сзади и называл ее по имени. Гизела, как окаменелая, продолжала сидеть неподвижно. Да, это его голос, но как странно он изменился и звучал как-то странно!..
– Графиня, слышите ли вы меня? – повторял Оливейра громче, между тем как сильный аккорд заглушал его слова.
Гизела медленно наклонила голову, не поворачивая к нему лица.

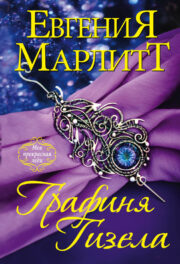
"Графиня Гизела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Гизела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Гизела" друзьям в соцсетях.