— Кофе ты пила?
Нет, кофе она не пила. Они вошли в рыбацкий кабачок Мигеля и заказали черный кофе, горячее молоко и большую тарелку хлеба. Сам патрон стоял в дверях и следил за порядком. У него было что-то с шеей, или со спиной, так что голова была всегда повернута набок и не шевелилась, он изучал людей из-под полуприкрытых век. Свою лысину прикрывал черным беретом и никогда его не снимал. Из принципа говорил лишь по-каталонски и рассматривал испанцев из других провинций своей страны как иностранцев. Поскольку при современном режиме это было довольно рискованно, перед незнакомыми гостями он предпочитал притворяться немым: отвечал пожиманием плеч, подниманием бровей, движениями большого и указательного пальцев.
— А вот тебе и коллега, — усмехнулся Давид, наливая кофе.
— Он писатель?
— Нет, контрабандист.
Ходили в городке слухи, что на протяжении десятилетий Мигель был вожаком контрабандистов Соласа, но его никак не удавалось схватить; только негнущаяся шея служила напоминанием о пуле жандарма. Поговаривали также, что Мигель таким путем нажил состояние, и смог поэтому дать дочерям богатое приданое, а сам содержал в Барселоне дорогую любовницу.
Зато во всем остальном Мигель был добрым католиком и относился благосклонно ко всем процессиям и праздникам, независимо от того, кто праздновал день своего святого-защитника и покровителя — рыбаки, сельскохозяйственные рабочие, таможенники или торговцы. В такой день кабачок закрывался для всех других посетителей и там вкушалась праздничная трапеза. Таким образом Мигель покровительствовал всем святым, а святые покровительствовали Мигелю и умножали его богатства, к обоюдной выгоде.
Наэми Лагесон шутка не понравилась. Легкость и шутливость не были ее сильной стороной.
— Почему этот несносный старикашка стоит и все на нас таращится? — возмутилась она.
Это была правда, Мигель рассматривал обоих своих ранних клиентов с неподвижной насмешливой улыбкой, воткнув кривую самодельную сигару в свою щучью пасть и придерживая ее уголком рта.
Давид повел рукой по направлению к окну, как бы показывая пейзаж, и заговорил безличным ровным тоном:
— Он говорит только на своем диалекте, но оскорбление учуял бы на любом языке.
— А какое мне дело, если он оскорбится?
Давид пытливо посмотрел на нее. Нет, она не принадлежит к тем, кто из деликатности постарается не наступать другим на ноги. Вероятно, она относилась к опасному виду людей, полагающих, что пальцы на собственных ногах лучше всего убережешь, если встанешь на чужие.
— Иностранец, оскорбивший испанца, высылается из страны, — объяснил Давид.
— О, — произнесла она, и было видно, что это она запомнит и будет впредь осторожнее.
— Мне бы хотелось спросить у тебя одну вещь, — прищурился он. — Почему ты вчера разыгрывала Руиса?..
— Кого это? Полицейского?
— Да… Что ты не знаешь испанского. А я заметил, что понимаешь ты довольно хорошо.
Она ответила безмятежно:
— Во-первых, многих слов я действительно не знаю, а во-вторых, мне не хотелось отвечать на их вопросы о том, откуда я и все такое.
— Почему же? Ты что, сбежала, не заплатив по счету? — пошутил Давид, потому что это было самое невероятное, что пришло ему в голову.
Но она кивнула головой и впервые сказала непринужденно и доверчиво:
— Вот именно. Ты тоже так делаешь?
— Ну, знаешь ли!.. — воскликнул Давид.
Она сразу же беспокойно заерзала на стуле и возразила обиженно:
— А что тут такого? Я только делаю, как все…
Некоторое время Давид сидел молча, глядя на нее. Что она, дразнит его, хочет увидеть, как долго он может держать себя в руках?
— Откуда ты явилась? — спросил он. — И кто такие эти «другие», которые делают так же?
— Мы, художники, ведь не обращаем внимания на деньги, — заявила она.
Эти слова можно было принять за богемное легкомыслие, но тут крылось и что-то другое. Что-то надуманное и претенциозное, снобистская поза.
— Деньги «других»?
— У нас у самих ведь их нет, — пожала она плечами и на этот раз победа осталась за ней.
Потом она вдруг без всякого стеснения рассказала, как она и еще один художник по имени Хенрик поехали на Майорские острова, чтобы там поработать. Но на Майорских островах шведских художников было как собак нерезаных, и Хенрик был все время не в духе.
— Он ужасно передовой, но когда дело касается женщин, то, ей-богу, считает, что они нужны только для того, чтобы… обслуживать мужчин, — сказала она, и когда ее слова были циничными, то звучали естественно.
— Так что, он тебе надоел?
Она как-то вся обвисла, лошадиный хвост обвис, прядь прямых волос спустилась прямо на лицо.
— Нет, я ему надоела раньше… Видишь ли, потом деньги кончились, и мы переехали, и так все переезжали и переезжали, и все в более дешевые хаты. В конце концов сняли комнату у одного рыбака…
— Как Мигель?
— Нет, что ты — постель без простыни, масло прогорклое, хлеб, как подметка. Бр-р-р! А потом у нас была жуткая ссора, и Хенрик стал бесноваться, и смылся — от платы за квартиру и от всего.
— Обворожительная личность, — заметил Давид.
— Ты же знаешь, наверно, художники — они все такие, — фыркнула она, пожимая плечами. — А потом я тоже побесновалась и улизнула со следующим пароходом.
— А рыбак?
— Что рыбак? Чего ты на меня так уставился?
Если Давид сердился особенно сильно, то несколько обычных линий исчезали с его лица — тех, что придавали ему иронически-терпимое или замкнутое и углубленное в себя выражение. Оно становилось гладким и жестким, а глаза делались ледяными. Но внутри у него все кипело.
Он жил в Испании уже почти два года — и стал сверхчувствительным в одном отношении. В отношении бедности. Голода. Всех этих людей, живущих в постоянных лишениях. И несмотря на бедственное положение какая сама собою рззумеющаяся честность! Какое живое сочувствие к окружающим! Не раз он наблюдал, как хозяева-испанцы, сами бедняки, помогали молодым художникам, попавшим в затруднительное положение, вплоть до того, что буквально делились с ним последним куском хлеба. А что делал молодой художник? В один прекрасный день получал деньги из дому, и либо уезжал восвояси, либо перебирался в хороший пансионат, поскольку полуголодное существование и последний кусок хлеба были не из приятных и не возбуждали в нем ни малейшего чувства благодарности. А бедняк только и видел свои денежки.
— Я полагаю, все же, что ты должна оплатить тот счет, — сухо произнес он.
Наэми хлебнула кофе двумя длинными и звучными глотками, как бы испугавшись, что он у нее отнимет и кофе.
— Как строго ты говоришь, — сказала она. — Ты что, верующий?
Он был уверен, что она над ним насмехается, — над тем свойством его натуры, которое требовало уважения к закону. По крайней мере к некоторым законам.
— Я ненавижу «художников» подобного рода! Настоящие художники не имеют с ними ничего общего!
— Да, но если нет денег…
— Ты ведь их потом получила! Сколько у тебя?
Она ответила хмуро, надув губы:
— Двести.
— А сколько вы там задолжали?
Она так и завертелась на стуле.
— Не помню…
— Сколько?
— За четырнадцать дней.
— По скольку за день?
— По тридцать песет.
Давид нацарапал на бумажке и умножил. Сто восемнадцать крон…
— Пошли.
— Ты что собираешься делать?
— Потащу тебя за шкирку на почту. Чтобы тот рыбак на Майорских островах получил обратно свои денежки.
— Ты что, не в уме?.. Не буду же я платить и за Хенрика тоже?
— Вытряхни их у него все до последнего эре, когда вернешься в Швецию. С процентами.
Она сказала с сердитыми слезами на глазах:
— Почему тебе жалко рыбака, а не меня? На что буду жить я?
— Ты-то уж найдешь кого-нибудь, у кого сможешь взять в долг, — вздохнул Давид. Увы, он догадывался, у кого именно. Он как раз получил немного денег после матери. Немного, правда, но все же какой-то резерв.
Когда дело было закончено и они вышли от почтовой дамы на цветастом диванчике, Давид вздохнул с облегчением, как будто с него свалилась тяжесть. Он улыбнулся, с некоторым удивлением иронизируя над собой, и повернулся к ней, чтобы объяснить, зачем он вдруг стал ей читать мораль, когда она с уважением и еще с каким-то едва уловимым чувством произнесла:
— Никогда бы не подумала, что кто-нибудь, кроме верующего, может быть таким строгим.
В замешательстве Давид понял, что у нее это не было насмешкой.
— Что ты имеешь в виду? А ты не думаешь, что неверующий тоже может быть честным?
— Нет, но… — начала она и казалась совершенно сбитой с толку. — Там-то, дома у нас, ясно, все знают, что такое грех и проклинают его — но писатели и всякие другие…
Давид улыбнулся:
— Ну, не все же писатели оставили в твоей душе такой горький осадок?
— Я знаю только немногих, — призналась она. — В той компании, куда я попала, когда приехала в Стокгольм, было несколько человек из тех, что пишут в газеты — иногда, если удастся пристроить то, что напишешь — и несколько художников. И все они жили, как придется, часто вместе, а деньги — да денег почти ни у кого и не было.
— А как ты туда попала? И когда?
— Два года назад. Когда приняли мою книгу. Тогда я должна была податься из дому.
— Почему же?
— Ну, понимаешь… мама и все в нашем приходе с ума бы сошли. Это ведь светская книга. Греховная.
Давид опять испытующе посмотрел на нее, но в ее голосе и намека не было на кавычки.
Как все люди, выросшие в очень стесненных условиях, она привыкла считать само собой разумеющимся все то, что относится к ее персоне: «мама», «прихожане», эти слова покрывали такие обширные области на карте ее души, что она даже не находила нужным их объяснять.

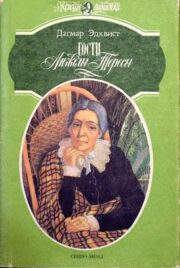
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.