Ну конечно, какая-нибудь бестолковая туристка — старушенция, растерявшая в дороге все свои капиталы, подумал Давид покровительственно, входя несколько позже в жандармский участок на первом этаже ратуши. Он поправил свой галстук и приготовился к роли Георгия Победоносца, берущего на себя дракона.
Руис указал ему на стул и отдал распоряжение жандармам. Костлявое коричневое лицо жандарма раскололось на две части в белозубой волчьей улыбке, когда он отдал честь и вышел.
Возвращаясь обратно, он подтолкнул в дверях перед собой молодую девушку. Девушку с волосами цвета некрашеного дерева, подвязанными наподобие хвоста у тибетской лошадки. Мужская рубашка навыпуск с высоким воротом и видавшие виды зеленые вельветовые брюки по щиколотку. Носки гармошкой и испанские веревочные туфли.
— Взгляните только, на что она похожа, — с возмущением сказал Руис. Его идеалом была сеньора Руис, андалузка с иссиня-черными волосами разделенными на прямой пробор, широкобедрая красавица килограмм на восемьдесят.
— Ш-ш! — зашипел на него Давид.
— Не понимает ни звука, — невозмутимо промолвил Руис, продолжая рассматривать ее тщательно и с интересом истого испанца. — Не поймешь — парень или девица, а так морочит голову моим гвардейцам, что я не могу ее больше держать у нас здесь. Можете вы мне это объяснить?
— Они, я надеюсь, ее не тронули? — резко спросил Давид. Вопрос прозвучал по-викториански строго, но был так же нелеп, как корсет с косточками рядом с этой девушкой, одетой, как приверженка экзистенциализма из квартала Сен-Жермен де Пре — но у нее было круглое шведское личико, тронувшее Давида, несмотря на свой надутый вид.
Руис засмеялся.
— Нет — но это уж моя заслуга, а не ее.
Давид пошел навстречу девушке и пробормотал свое имя.
Взмахнув своим белесым хвостом, она вялой рукой взяла его протянутую руку.
— Привет, — сказала она. — Вы швед?
— Да, — ответил Давид, несколько охлажденный ее равнодушным тоном.
— Чудненько. Велите тогда им, чтобы меня отпустили.
— Легко сказать… А почему вы здесь?
— Эти идиоты думают, что я пыталась провезти контрабанду…
— Вас вышлют, если будете оскорблять испанцев! — вскричал Руис. Некоторые слова, к сожалению, интернациональны.
— Вот этот очень нудный, с другими бы я справилась, — кивнула девушка с легкой усмешкой в сторону жандарма. Можно было подумать, что его ударило током.
Круглые девичьи щеки, оказывается, не всегда являются гарантией шведской добротности…
— Ее поймали на месте преступления, — сердито сказал Руис. — Мы делали облаву в автобусе, искали партию кофе, а она, представьте себе, сидит и прячет целый мешок под юбками.
— Но ведь у нее нет никаких юбок, — вставил Давид.
Возражение произвело на Руиса должное впечатление, но девушка сама сразу же опять все испортила.
— Я держала мешок между коленями, только положила на него свой плащ. Но ведь это была только шутка…
Давид посмотрел на нее меланхолическим взглядом.
— Боюсь, в таких случаях у них нет чувства юмора. Зачем вы такое натворили?
— В автобусе было, конечно, ужас как тесно, а мое место оказалось среди целой компании испанских реб… парней. Они все смеялись и кричали, да еще наступали мне на ноги. Потом вдруг подали сигнал, что идут жандармы — а они мне тогда и говорят: сядь вот на этот мешок. Ну я и села. Но жандармы все равно его нашли, и взяли меня и всех парней.
Она привыкла говорить ребята, но стиль требует сказать парни, подумал Давид, переводя ее слова и добавляя кое-что от себя о молодости девушки, о всеобщей разболтанности и о полном незнании законов и обычаев страны.
— Знала она раньше или нет ту компанию в автобусе? — спросил Руис через Давида.
— Никогда их раньше не видела, — ответила она тем же тоном, что и прежде.
— Хм, — произнес Руис. Потом потер себе подбородок и добавил:
— Ну, ладно — честно говоря, думаю, так дело и было. Те-то нам известны… Но все равно — за помощь контрабандистам полагается наказание.
— Знаете, если у вас нет особых возражений, так, может, вам лучше ее отпустить? — спросил Давид. — А то придется нам впутывать сюда консулов, адвокатов — стоит ли?
Руис задумался.
— Спросите-ка ее, сколько у нее есть денег, чтобы заплатить штраф, — сказал он. — Она из богатой семьи?
Девушка вывернула наизнанку карманы своих брючек.
— Переведите ему, что ровно столько же я могу получить из дому. И не стала бы возражать, если бы они оставили меня пожить здесь, в участке, только бы снабжали чернилами и бумагой.
Давид перевел, и Руис заколебался. Он был озадачен, Потом выпрямился и сказал с пафосом:
— Мы, испанцы, — рыцарский народ. Эта женщина нарушила наши законы, но мы не берем с нее штрафа. Сеньор, я вам доверяю: от имени вашей соотечественницы я делаю вам подарок.
Свои слова он закончил поклоном перед остолбеневшим Давидом. Затем прибавил более естественным тоном:
— И ради всех святых, постарайтесь, чтобы она отсюда исчезла!
Девушка перебросила свой лошадиный хвост на спину и засмеялась. Она окинула Давида взглядом с головы до ног, потом с ног до головы; этот взгляд бесстыдно пополз по его коже, по ее нервным окончаниям; ну как, разве не приятно получить такой подарок?
— Сходите за ее вещами, — приказал Руис жандарму. И в первый раз обратился к ней самой: — Сядьте пока.
Она присела на краешек стола, равнодушная и отсутствующая, потом взгляд ее опять задержался на Давиде, в глазах появилось какое-то новое выражение.
— Вы Давид Стокмар!
— Да, — удивленно сказал Давид, он ведь с самого начала так и представился.
— Я не слышала, — я вас не узнала…
— Разве мы раньше встречались?
— Нет, но я должна была вас все-таки узнать.
— Простите, а как зовут вас?
— Наэми Лагесон.
Руис протянул ему паспорт девушки. Он продолжал обращаться с Давидом, как с единственным разумным существом, присутствующим здесь. Давид прочел: Наэми Альбертина Лагесон, родилась 3 апреля 1927 года в уезде Топпелёса, провинции Иёнчёпинг…
Двадцать пять лет? А она разыгрывала из себя семнадцатилетнюю.
Наэми вырвала у него свой паспорт.
— Ни к чему тебе читать там все это об Альбертине и Топпелёсе…
Тебе. Шагала она быстро, как на марше, эта девица. А какое поразительное смешение бесцеремонности и шведской застенчивости!
— А мое имя тебе ничего не говорит? — спросила она почти робко.
Тут у него мелькнуло одно воспоминание, и он сообразил, кто она такая. Наэми Лагесон, да это же имя одной дебютантки-писательницы, в прошлом году она начала печататься. Романа ее он не читал, но припомнил, что отзывы в прессе были хорошие. «Хрупкий и своеобразный талант», — значилось в издательских аннотациях.
— Так что мы коллеги, — улыбнулся он.
Она кивнула и продолжала поедать его своими раскосыми, широко раскрытыми, очень редко мигавшими глазами.
— Может быть, я веду себя как ребенок… Но так занятно повстречать писателя старшего поколения…
Давиду почудилось, что его ударили ногой под ложечку. «Старшее поколение»! Какой жестокий способ обнаружить, что в глазах других ты уже не принадлежишь к молодым дарованиям! Он не мог сдержать в себе протест:
— Еще и десяти лет нет, как я сам выпустил свой первый роман.
— Мне кажется, я читала твои книги всю мою жизнь. И вот ты здесь, настоящий, живой. Так странно.
— И действительно странно, — согласился Давид и невольно рассмеялся.
Жандарм вошел с дешевым чемоданом, перевязанным веревкой. Давиду удалось бросить взгляд на часы: десять минут второго. Поздно даже по испанским понятиям.
— Стоп! — сказал он. — На сегодняшнюю ночь она должна остаться в участке. Сейчас уже все закрыто.
— Ты женат? — спросила Наэми.
Давид проглотил чуть было не сорвавшееся с языка «нет» и ответил: да, женат.
Жаль, — буркнула она лаконично, надула губы, осела как-то в своей мужской рубашке, пошевелила пальцами ног в своих веревочных туфлях.
Посовещались все вместе. Было решено, что жандарм унесет ее чемодан обратно.
— Спокойной ночи, — сказал Давид. — Завтра я за вами — за тобой зайду рано утречком.
— Мужчины всегда врут, — отрезало хрупкое дарование и поплелось за жандармом.
Давид и сержант посмотрели друг на друга.
— Было бы наверно спокойнее — для вас, — если бы ей дали пару месяцев, — покачал головой Руис.
На следующее утро Давид зашел за ней и взял на себя, заботу о перевязанном веревкой чемодане.
Он был зол, бреясь только что, несколько раз порезал себе подбородок, а она выглядела осунувшейся и немытой.
— Куда вы собираетесь идти? — спросил он.
— Куда идти? Я остаюсь здесь. Если вы ничего не имеете против, — прибавила она язвительно. Но в безжалостном утреннем свете она выглядела юной и растерянной. Дерзкой, но одновременно и испуганной.
— Я тут знаю один дом, где ты можешь пока пожить, — предложил он.
— Там же где…
— Нет, я живу в другом месте.
— Почему ты такой плохой товарищ? — спросила она жалобно.
— Извини, я не знал, что ты мечтаешь именно о товарищеских отношениях.
— Да, плохой товарищ! Да еще так важничаешь.
Тут Давид засмеялся.
— Я буду более естественным, когда ты перестанешь изображать из себя enfant terrible[7] из асфальтовых джунглей. Паспорт говорит кое-что иное о твоем возрасте и месте рождения.
Она сказала с горечью:
— Мне все ясно. Уродилась деревенской дурочкой, значит, навсегда деревенская дурочка.
— Нет, я не это имел в виду, — произнес Давид более мягко. Несмотря ни на что в ней было что-то трогательное: как только речь зашла о ее больном месте, она сразу стала естественной, хотя ее защитная окраска его раздражала.

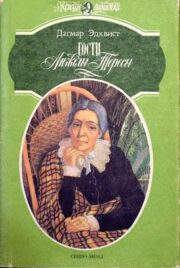
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.