Сколько страданий причиняет ненаписанное письмо! Написанное всегда выявляет хоть какой-то человеческий недостаток пишущего, оно слишком длинное или слишком короткое, слишком холодное или слишком требовательное. И только то, что мы ждем, но не получаем, может нас полностью осчастливить, оно несет в себе ответ на все вопросы, что мы не в состоянии даже поставить. С каждым часом ожидания неполученное письмо все больше и больше приобретает характер Вещего Слова, колдовского заклинания, которое одно в состоянии изменить всю нашу жизнь. Какое множество изголодавшихся ожиданий устремляется ежедневно к почтовому ящику, и каждое осматривает его и обследует со всех сторон — а потом стоит там, печальное, как собака у могилы хозяина.
Пчелы все-таки его догнали, они стали уже жалить: он просто надоел Люсьен Мари. Она хочет положить конец их отношениям.
Горячее, чем дружба, более зыбкие, чем брак, бесплодные, как любовная связь — и все же как крепко они их связывают. Как держат. Как она могла? (О, конечно. Я понимаю, как ты могла, понимаю, что все это тебя не удовлетворяет…)
А для него их отношения как раз в последние недели стали особенно важными. Теперь, когда он вернулся в Испанию после смерти матери.
Прошло восемнадцать, нет, девятнадцать месяцев, как он расстался с Люсьен Мари в летний день в Бургони, после крушения его брака с Эстрид. Думал ли он тогда, что они встретятся вновь? Честно говоря, нет.
Но они увиделись опять. Потом началась переписка. Всякий раз они заверяли друг друга в письмах и при встречах: я не держу тебя. Можешь располагать собой по своему усмотрению. Нас ничто не связывает. Мы встретимся вновь, только если оба решим, что нам обоим это будет приятно.
Они решили, что будет приятно.
Приятно! Слово-то какое!
Но расставаться с каждым разом становилось все труднее. И как раз это вызывало в нем сопротивление. Один раз его уже ввинтили, как болтик, в общественный механизм, в брак с Эстрид; ему не хотелось повторить все сначала. В тот раз он выбрал разрыв и свободу. Выбрал даже побег, когда появилась угроза быть запертым навсегда.
И вот теперь он получил, что хотел. В тридцать пять лет оказался здесь, без жены, без детей, «без постоянного места жительства», с зубной щеткой и портативной пишущей машинкой в качестве единственного личного достояния.
Разве он недоволен?
Ему вдруг пришло в голову: я-то дешево отделался, легко вырвался из железных объятий своей судьбы. Только неужели это и есть воплощение желанной свободы? Тогда он для нее не годится. Такая свобода воспринималась им скорее как освобождение от всех человеческих связей. Гениальный бунт маленького болтика. Гордый жест винтика — лучше выпрыгнуть из нарезки, чем вновь войти как деталь в большую машину.
Тема для проповеди. Но только и здесь была не вся правда.
Может быть, это смерть матери что-то в нем изменила? Заставила почувствовать знобящий ветер одиночества. Он помнил охватившее его чувство отчаяния, когда умер отец: отныне я буду жить, одним боком повернувшись к смерти. И нет уже никого, кто бы стоял между нею и мной.
Отчаяние вернулось опять, явственно, как привидение, когда несколько недель назад он и его братья стояли у открытой могилы матери. Да, теперь они находились на самом краю родовой пропасти, в которую падает каждое следующее поколение. (В такую пропасть бросались в древности старики, не желая быть в тягость своим близким) Пропасти, у которой можно было ожидать только удара дубиной сзади по голове.
Послышался плач, сопровождаемый настойчивым блеянием. Маленькие козлята без всякого почтения забирались на грязную городскую стену когда-то служившую защитой от морских разбойников и мавров. Теперь она разрезала городок как раз посредине: по одну сторону вверх по склонам подымалась Вилла Виэйя, древний город римлян, с тесными, крутыми улочками, сейчас они кишели ребятишками, кошками и козами, а по другую вдоль берега простирался новый поселок. В отличие от старого города вид поселка то и дело менялся, был лишен постоянства. Задумчивое рыбачье селение походило иногда на деревенскую красавицу, в руках которой оказалась коробочка с косметикой.
Большая компания играющих мальчишек напугала козлят и заставила Давида очнуться у самого подножия стены. Одного мальчика ребята оставили, а сами убежали. Малыш стоял и, громко рыдая, бился головой о стену. Даже каталонский язык не помешал Давиду понять, что он кричал:
— Они меня бросили! Они меня бросили!
У Давида сжалось сердце, когда он услышал, как жалобно кричит его маленький товарищ по несчастью.
Давид посмотрел на стену и подумал: а может и в самом деле станет легче, если биться о нее головой?
Большие мальчишки мелькнули наверху, в бойницах на стене. Давид присел на корточки и прошептал: вон они там, наверху. Беги, догоняй их.
Крик сразу же оборвался. Малыш резвым аллюром пустился догонять своих.
«А кто утешит меня?» — подумал Давид.
Последний раз он виделся с Люсьен Мари поздней осенью, когда его неожиданно вызвали домой, к больной матери. Они расстались так внезапно, что не успели сказать друг другу самое важное.
Дома он застал мать умирающей от рака.
Шли недели. Ничто его не миновало, да он этого и не хотел, всем своим существом сопереживая глубочайшее страдание другого человека. Снова он стал сыном, снова, как в детстве, сблизился с матерью, но одновременно был и взрослым мужчиной, несшим за нее бремя сознания, когда она сама нести его была уже не в силах. Когда она пыталась найти утешение в одном незабываемом событии своей молодости, и в бреду все возвращалась и возвращалась к тому давнему путешествию на гору Тибидабо.
Долгие годы он был для нее чужим — с тех пор, как она во второй раз вышла замуж, да и после, когда опять овдовела. Но ее муки и его сострадание открыли какие-то каналы в их памяти и вернули их к прежним временам, вновь наделили ее той властью, которой она, видимо, когда-то — до Эстрид — обладала. (О, их образы — они сплелись теперь у него в один.) Когда наконец наступила развязка, он в полную меру, всеми чувствами, пережил все переплетение острой боли, облегчения и горя.
В течение всего этого времени он был не в состоянии поддерживать переписку с Люсьен Мари. И, когда возвращался в Испанию, не поехал через Париж. Только что пережитое было еще слишком свежо, ему нужно было побыть одному. Его угловатой скандинавской натуре претил сейчас этот так называемый город радости.
Но Люсьен Мари было трудно понять то, чего не мог объяснить он сам… И теперь уже молчала она.
Не замечая пленительной красоты дороги, Давид шагал к дому Хуана Вальдеса, где снимал комнату. Дом стоял в Вилла Виэйя, одной своей стеной опираясь о городской вал.
Поскольку Хуан часто углублялся в интересные, но бесплодные в смысле добывания денег беседы в Эль Моно или у Мигеля, сеньора Вальдес решила рискнуть и открыла дамскую парикмахерскую, чтобы было что положить в тарелку своим многочисленным отпрыскам.
Давид часто видел, как к ней входили женщины с гладкими черными волосами, а отходили, пошатываясь, от аппарата для завивки «перманент» с прической зулусских негров. Конечный результат всегда был для всех сюрпризом, и зависел оттого, имела ли сеньора Вальдес возможность в данный момент выкупить на почте последнюю посылку с дорогостоящими снадобьями для перманента или была вынуждена обходиться подручными средствами, потому что деньги пошли на ботинки для Хуанито или на конфирмационную фату для Карменситы.
Дверь в парикмахерскую всегда была распахнута настежь, и соседки то и дело наведывались, чтобы перекинуться словечком либо с самой Консепсьон, либо с ее жертвой в аппарате. Младшие ребятишки сновали туда и обратно, крикливые, в мокрых штанишках. Внимание Консепсьон мягко рассеивалось сразу в нескольких направлениях: в окно, присмотреть, чтобы младшие мальчики не залезли на стену и не убились, на малютку в колыбели, на котел в очаге, а также и на клиентку, которую нужно было сделать красивой. Действия ее не отличались проворством, зато она обладала особым очарованием, заключавшимся в том, что она никогда не спешила. Мягкими, спокойными движениями она расчесывала волосы щеткой, опираясь животом и тяжелыми грудями на свою клиентку, прислушиваясь к болтовне с присущей ей приветливостью и немного бездумной улыбкой. Время текло для нее, как надежный конвейер, куда все ее дневные заботы подавались таким образом, что ей уже не нужно было тратить на них ни мысли, ни нервы, ни энергию.
Давид крадучись проскользнул мимо двери в дамский салон и мимо любопытных взоров. О содержании произнесенных шепотом фраз он приблизительно догадывался.
— Твой новый жилец?
— Да.
— Англичанин?
— Нет, швед.
— Швед? (Смех, потому что Консепсьон шепелявила и получалось «свет».)
— Нет, швед — из Стокгольма.
— Это в Швейцарии?
Но такой вопрос уже превышал познания Консепсьон о том, где находится Стокгольм.
Они прислушались, как Давид ощупью пробирается к себе наверх по полутемной лестнице и затем по чердаку.
— Он, конечно, художник, как и все они?
В доме семьи Вальдес на крыше имелась терраса с видом на горы и бухту, и приезжие художники часто на нее устремлялись, расставляя там свои мольберты — когда не мешали клетки с курами. Консепсьон предпочитала держать кур на крыше, где им не угрожали ни бродячие собаки, ни мальчишки.
Консепсьон понизила голос и сказала таинственным шепотом:
— Нет, этот — писатель.
— О! А ты видела, что он пишет?
Консепсьон кивнула, втирая неизвестного происхождения мазь в черную, как конский волос копну волос.
— Он попросил большой стол и весь завалил его бумагами и книжками. Вот, послушайте, сейчас он будет стучать на своей маленькой машинке.

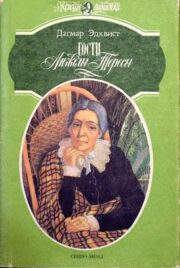
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.