— Долорес рожает у Анжелы Тересы! Что скажет Луис?
Люсьен Мари спросила, нельзя ли ей взять к матери самую младшую девочку.
Бабушка отрицательно покачала головой, но взяла тряпку, вытерла девочку, что называется, с обоих концов и покорно передала ее гостье.
И вот Люсьен Мари стоит с маленьким смуглым комочком, совершенно голым, если не считать рваной рубашонки. Малышка еще не умела ходить, едва только училась стоять и делать один-два неверных шага.
Люсьен Мари пошла дальней дорогой по апельсиновой аллее, потому что там была тень. Несколько раз ей приходилось присаживаться отдыхать — девочка, такая маленькая, а оказалась удивительно тяжелой. В конце аллеи ее догнал Давид. Луиса он не нашел, как ему сказали, тот повез на лодке целую компанию туристов, но Давид велел разыскать его во что бы то ни стало и предупредить о возможном несчастьи.
Давид взял у Люсьен Мари девочку, она сосала пальчик, без капризов пошла к нему на руки. Он посмотрел на нее удивленно, потом спросил:
— У ее матери будет еще один? Ведь и эта родилась недавно.
— Ну, наверное, ей уже годик, — сказала Люсьен Мари, — но все равно…
Когда они вернулись, для Долорес все уже кончилось. Ребенок умер во время родов, «не успел даже получить крещение как человеку положено».
Люсьен Мари подождала немного, чтобы дать ей возможность немного прийти в себя, потом вошла.
Долорес лежала белая и опустошенная, казалось, ей уже никогда более не поднять век. Люсьен Мари молча положила девочку ей на руку. Едва оказавшись рядом с матерью, девочка начала лепетать и агукать. Застылые синеватые губы Долорес смягчились, забрезжила легкая улыбка, она потрогала рукой маленькие теплые ножки.
— Хотите поспать? Взять мне ее? — шепотом спросила Люсьен Мари.
Долорес чуть заметно повела головой, все еще не в силах поднять веки. Девочка прижалась к ней, свернулась калачиком, она вот-вот уже готова была уснуть.
Пока все шло хорошо. Долорес была в высшей степени измучена, но страдания были позади. Она могла заснуть, находя утешение в теплоте детского тельца. Они лежали рядом, не мешая друг другу, как самка зверя со своим детенышем.
Люсьен Мари вышла к акушерке и спросила, что будет с Долорес.
— Наверное поднимется температура, — ответила та, — но теперь хоть есть от нее лекарство. А раньше — вероятно, все бы окончилось иначе.
Долорес лежала у них шесть дней, и все в доме как могли баловали ее и маленькую Анжелиту. Сначала ей было все безразлично. Потом она стала протестовать против такой греховной роскоши. И, наконец, заставила себя наслаждаться, как милостью с небес, этим единственным отпуском в своей жизни.
На седьмой день пришел Луис, красивый сумрачный черноволосый мужчина, и высказался в том духе, что теперь ей пора домой, пора приниматься за работу.
Люсьен Мари увидела, как по всему телу Долорес пробежала дрожь, как на бледно-смуглых щеках выступили красные пятна. Кончился ее отпуск и кончился ее отдых. Грубые требования Луиса возвращали ее к обычной жизни.
В дверях они столкнулись с приходским священником, пожелавшим навестить больную. Он вернулся с ними, поддерживая Долорес, когда все они пошли через поле. Луис нес дочку.
Давид и Люсьен Мари стояли в дверях верхнего холла и смотрели им вслед.
— Хорошо бы Долорес пришла сюда, когда поправится. Я бы ее кое-чему научила, — вздохнула Люсьен Мари.
Они так неожиданно расстались, что не успели даже поговорить наедине.
Давид глядел на удаляющуюся группу, двигающуюся по полю: тонкая женская фигурка между одетым во все черное священником и Луисом с самоуверенной осанкой матадора.
— Сомневаюсь, что она когда-нибудь появится здесь, — покачал он головой.
26. Смотрите, наш учитель с книгой!
Осень пришла с порывистыми ветрами над землей, до того выжженной, что напоминала красную золу. Тем не менее виноградные гроздья наливались соком на этой сухой земле, а черные оливы обещали богатый урожай, если только ночная буря как-нибудь не собьет их преждевременно. Остроконечные вершины гор резко выделялись на фоне желтого вечереющего неба, и когда приходила созревшая тьма, просвечивающие насквозь гроздья звезд казались подвешенными ниже и ближе, чем раньше, как будто их тоже собирались срезать, как гроздья винограда.
Туристы приехали и уехали, оставив после себя тонны мусора на пляже, общий подъем в торговле и нескольких девушек в несчастье.
Лавочка Жорди тоже переживала свой скромный расцвет. В один прекрасный момент он вдруг увидел все ее убожество — и решил поправить дело. Ночью выкрасил прилавок и свой единственный стул в синий цвет, да, он даже раздобыл кусок синей материи и завесил им дверь чуланчика за прилавком.
Свой единственный костюм он обычно чистил с помощью кофе, а брюки стал класть под матрас накануне вечером, если собирался навестить Анжелу Тересу и ее постояльцев.
Он опять начал читать, Разговоры и споры с Давидом, перелистывание его книг вновь пробудили в Жорди прежнюю жажду чтения. С удивлением, как будто бег времени застал его врасплох, он заметил, что начинает становиться дальнозорким. Достал себе очки, и теперь часто сидел вечерами под своей единственной тусклой лампочкой и читал взятые у Давида книги или свои собственные старые, он держал их в ящике под постелью. Увидев свое отражение в черном стекле окна, усмехался, как будто видел старого знакомого в маске.
— Разве здесь нет библиотеки? — спросил однажды Давид.
— Нет, вздохнул Жорди. — То есть, была тут маленькая библиотечка, но фашисты ее конфисковали, и теперь книги валяются, как хлам, на чердаке ратуши.
— Хорошо бы до них добраться, — произнес Давид задумчиво, потому что книги вообще были дорогие, а этот год порядком порастряс его ресурсы.
— Я-то не являюсь в том месте персоной грата, а ты мог бы попробовать, — сказал Жорди.
Давид пошел в ратушу, выбрав то время, когда, как он надеялся, эль секретарио отправился завтракать. Ему повезло также и в том, что он увидел сержанта Руиса, мирно сидевшего и орудовавшего таким невоинственным оружием, как зубочисткой.
— Книги? — протянул тот удивленно. — Нет здесь никаких книг. Ах, на чердаке, ну, правильно, лежит там какая-то старая рухлядь…
И, взяв ключ от висячего замка, он поднялся на чердак в сопровождении Давида. На полу валялись кипы книг, покрытых паутиной и крысиным пометом; это было самое разнокалиберное собрание, начиная от Сервантеса и Кальдерона и кончая романами, принадлежащими перу английских мисс. Там были Лорка и Бейтс, писатели, доступ к которым был запрещен. В Соласе, видимо, не сжигали книг на кострах.
— Берите все, что хотите, — предложил Руис с врожденной щедростью настоящего испанца.
Вообще говоря, Давид начал за него немного беспокоиться. Могло ли так продолжаться и дальше для человека в его положении, если по характеру он был порядочным, прямодушным, доверчивым?
Спустившись в экспедицию, Давид написал расписку. Руис в недоумении огляделся кругом, как бы решая, что ему с ней делать; потом его взгляд упал на какой-то штемпель, и он тиснул его в самом низу бумаги с улыбкой школьника, ожидающего похвалы. Потом опять уселся на стул и скрестил на груди руки.
— Ну, так как обошлось дело с вашей пленницей? Отсюда она во всяком случае исчезла.
— Моя пленница, спасибо вам, — сказал Давид ворчливо. Немного слишком ворчливо.
Руис произнес мечтательно.
— А ведь, действительно, есть что-то в этих сердитых и зеленоглазых, замечаешь это только потом… Но я понимаю, у меня у самого есть жена.
С сердитыми и зеленоглазыми можно было бы еще примириться, если их рассматривать только с точки зрения Руиса. А вот если в их распоряжении оказывается еще хорошая голова и пишущая машинка…
Наэми бросила в него камень, когда они расставались. А потом еще один…
Накануне он получил тоненький сборник новелл с посвящением, только что из типографии. «Д. от-ми».
Одна новелла называлась «Последние люди» и повествовала о мужчине и женщине на берегу моря. У женщины богатство чувств, она — само здоровье и расцвет, она связана с землей и морем. Мужчина с виду мужественный и сильный, но замкнут, недоступен для женщины в своем сухом, бесплодном морализировании.
Это была новелла без всякого действия, просто живопись настроения, построенная вокруг темы разочарования и бесплодия. Давида ожидал там укус скорпиона; он и сам был недоволен своей склонностью к замкнутости и отчужденности. И все же в этом случае с полным основанием мог бы сказать — если бы было кому — что она прибегла к фальсификации. Потому что ограничила повествование двумя персонажами, не показав третьего, незримо присутствующего, объясняющего все поведение мужчины. А в картине жизни, созданной Наэми Лагесон, не было третьего действующего лица, там были только Он и Она, и холодность по отношению к этой Она оказывалась предательством по отношению к силам самой жизни.
И все же можно было сказать, что тот мартовский день принес по крайней мере хоть это терпкое яблоко, этот маленький горький октябрьский плод.
Давид попрощался с Руисом, пошел к Жорди и выложил обретенный им плод — растрепанные книги на его синий прилавок.
Жорди начал их перелистывать, и лицо его опять прикрыла серая маска, появлявшаяся всегда, когда что-то прикасалось к его наглухо закрытым чувствам. Он взял одного из испанских классиков и посмотрел форзац — лист на свет, так что стал виден штамп. «Народная библиотека, Солас, 1936».
— Это был наш первый опыт, — глухо сказал он. — Нет теперь больше в Соласе бесплатных книг для народа.
Его прервал ужасный шум на площади, крики и топот копыт. В Вилла виэйя началась ярмарка скота, крестьяне из горных селений спустились сюда, чтобы продать выращенный за год скот. Жорди и Давид вышли па крыльцо и стали смотреть. Мимо них двигалась целая кавалькада верховых коней, мулов и ломовых лошадей. Зрелище было красивое: все животные вычищены до блеска, a сопровождающие их мужчины в ярких рубашках, с шелковыми поясами, туго затянутыми вокруг талии. Но это не были звезды арены. Это были простые сельские жители, со свежим цветом лица и грубыми руками.

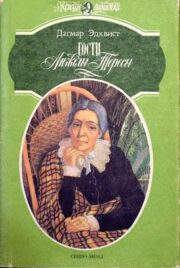
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.