— Это история о мужчине и женщине… об их браке…
— О нас с тобой?
У нее это вырвалось быстро, совершенно непроизвольно.
Давид помолчал, ошарашенный. Потом улыбнулся:
— О женщина! Если у тебя в доме писатель, так он обязательно должен быть трубадуром!
Люсьен Мари смутилась и поэтому сказала резко. Более резко, чем обычно:
— Потому что вы, писатели, смотрите на брак все равно как на сыр! Достаточно ли он выдержан? Пахнет ли? Достаточно ли в нем червячков? Чудно, тогда это лакомый кусочек для писательских уст, тогда мы можем его взять…
Давид даже не нашелся сразу, что ответить.
— Хорошо бы нам с тобой никогда не дойти до кондиции, угодной любителям такого сыра, — прибавила она, немного волнуясь.
— Аминь, — тихо произнес Давид.
Он поднялся, обошел вокруг стола, обнял ее сзади, поцеловал в порозовевшую шею.
— А как провели сегодняшний денек вы? — тихонько спросил он, не отнимая от нее своих рук.
Постепенно они наверно привыкнут, не будут относиться к этому, как к чему-то совершенно невероятному. Но пока еще для них обоих такое обращение как «вы» было ошеломляющим.
Они едва решались дышать, стали тихими, как окружавшие их деревья. Обе свечи совсем почти догорели, их крошечное пламя уже едва виднелось под колпачками. Вокруг спустилась интенсивная испанская ночь.
Они завели привычку купаться утром на самом дальнем пляже, прежде чем раскалится песок и целые сонмища туристов ринутся к морю.
Люсьен Мари и Давид шли мимо переполненных гостиниц, где люди, у которых гораздо больше денег, чем у них, сидели и грелись на солнце за своим утренним кофе или ранним стаканчиком вина. Но они бы не согласились обменяться с ними местами.
Guapa, guapa[15], кричали вслед молодые мужчины, когда Люсьен Мари проходила мимо в своем белом пляжном платье и большой соломенной шляпе.
Она вздрагивала, как от прикосновения, но Давид гордо посматривал вниз на свою жену, на «красавицу».
Однажды утром, когда они медленно, чтобы не вспотеть сразу же, шли по пляжу, она спросила:
— Придумал ты название для того, что пишешь сейчас?
— Да. Я назвал это «Слепые». — И прибавил задумчиво: — хотя с таким же успехом можно было бы сказать и «Глухие». Ты заметила, что семейные люди отгорожены от всех других непроницаемой стеклянной стеной? Их все слышат и понимают, что они говорят, а они других — нет.
Она крепко схватила его за локоть:
— Я не могу, чтобы это случилось с нами… Мы с тобой должны изобрести какую-нибудь азбуку Морзе, которая проходила бы через эту стеклянную стену — теперь, пока еще мы видим и слышим — и, главное, чувствуем…
Он остановился и поцеловал ее прямо на мосту. В этот момент им повстречались возвращавшиеся с речки женщины с высокими бельевыми корзинами на голове. Самая молоденькая уронила свою корзину на землю.
— У нас не будет стеклянной стены, — успокоил ее Давид.
Нет, никакой стеклянной стены, никакой ледяной стены. С наивной уверенностью Люсьен Мари считала, что у нее есть тот огонь, что поддерживает жар в мужчине и мешает вырасти такой вот стене. Но она подумала также: а вот когда ты пишешь, то уходишь в четвертое измерение. Тебя окружают невидимки, ты общаешься с ними, с ними ты страдаешь и переживаешь. От тебя тогда надо держаться подальше, а то может ударить током… Когда я вхожу к тебе в комнату и ставлю на твой стол чашку с кофе, ты смотришь на меня пустым, стеклянно прозрачным взглядом… Такой взгляд заледенил бы меня на месте, если бы я не знала, что он относится не ко мне, а к тем, к другим.
Ты такой, какой есть, и должен быть таким, это одно из условий нашего с тобой существования. С фундаментальными условиями жизни не вступают в дискуссию, как ты однажды выразился. Да, но как раз это и приходится делать. Не всегда легко взять и перестать трясти тебя, напоминая о том, что я существую. А, да в общем я и не требую, чтобы мне было легко. Кстати, у меня тоже есть своя тайная жизнь, есть свои связи с неким существом, пока невидимым для других.
И с уверенностью лунатика Давид продолжал выполнять свой сложный цирковой номер с балансированием: в реальной жизни жил в одном браке, а в вымышленном мире — в другом, с лучом прожектора, иногда неожиданно прорезающим то один его брак, то другой.
И они не смешивались?
А откуда он мог знать — как именно переживания человека смешиваются в хмельную жизненную брагу?
23. История II о всемирном менторе
Соласцы решили устроить танцы и танцевать свою сардану при свете факелов на площади в Вилла виэйя.
Жорди зашел за Давидом и Люсьен Мари.
Он опять стал приходить в дом Анжелы Тересы. Да, если бы он захотел, обе старые женщины приняли бы его к себе как сына.
Однажды вечером, когда все сидели в саду, под чьими-то ногами заскрипел гравий — всего лишь несколько шагов — потом стало тихо, как будто кто-то хотел дать знать о своем присутствии. После этого на неслышных веревочных подошвах в комнатку без стен, образованную одним только сиянием свечей, вошел Жорди, Робко постоял немного и вскоре попрощался — но лед был сломан, он стал приходить к ним опять. Иногда молчаливый, и, казалось, замерзший в разгаре знойного летнего дня, готовый вот-вот выпустить свои сверхчувствительные усики-антенны, чтобы проверить, не мешает ли он здесь кому-нибудь своим присутствием.
А иногда мог промелькнуть новый Жорди, с проблесками былого веселого нрава. Он играл на гитаре так, как это умеют только испанцы — но упросить его удавалось не часто. Он знал бесчисленное множество старинных народных песен — настоящий золотой клад для Давида.
Анжела Тереса сидела иногда, положив руку на плечо Жорди, беседуя о прошлых временах, как будто они были настоящим, как будто позабыв обо всех мучительных годах, отделявших прошлое от настоящего. Один раз она помахала ему рукой и сказала: передай привет маме, Пако. Он поднял руку, но не ответил. Его мать давно умерла.
В другой раз она засмеялась, как в молодости, и заметила, что он чем-то похож на своего предка — епископа.
— А я думал, что у епископов не бывает потомков, — сказал Давид.
Да, конечно, но тем не менее многие старинные каталонские семьи считают свое происхождение либо от епископов, либо от святых.
Отец Пако был редактором одной либеральной газеты в Барселоне. Когда он умер, вдова со своим маленьким сыном переехала в Солас, где жизнь была гораздо дешевле, и оказалась ближайшей соседкой семьи Фелиу.
Прошло несколько лет. Каждый год с наступлением зимы мать Пако стала устраивать в Барселоне пансион для него и для мальчиков Анжелы Тересы.
— И это называется дама из хорошего общества! — ворчала Анунциата. Отсюда следовало, что сама она и ее кумир, дон Педро, не принимали своих интеллигентных, но бедных соседей так же безоговорочно, как Анжела Тереса и ее сыновья.
На узких улочках толпилась масса народу, когда Жорди, как лоцман, вел их к месту, откуда все было хорошо видно. Ощупью они пробрались вверх по томной лестнице в степе крепостного вала, вышли на узкий балкончик сторожевой башни с бруствером. Оттуда можно было обозревать всю площадь и расходящиеся от нее улицы.
Свет факелов отсвечивал красным на светлых летних платьях и блестящих черных волосах. И на еще более блестящих черных касках жандармов.
Заиграл духовой оркестр, жарко засверкала медь. Мужчины и женщины взяли друг друга за изящно поднятые руки, образовав одно большое кольцо внутри другого.
Раз, два, три, четыре, направо, налево, вперед, назад…
Юбки у девушек развевались, мужчины распрямились и выпятили грудную клетку. Молодежь останавливалась в нерешительности перед каждым новым движением, перед каждой фигурой старинного танца. Но несколько пожилых женщин в черных платьях хорошо его знали. Многие смотрели на него, как на простое народное развлечение, но все равно танцевали с ритуальной серьезностью, ставили ноги с неизменным изяществом и точностью. Они почитали своей обязанностью передать свое унаследованное умение дальше, новому молодому поколению.
— Танец наверно очень старый? — спросила Люсьен Мари.
— Даже древний, — отозвался Жорди. — Когда финикийцы подошли на судах к этому побережью, они вышли на берег, чтобы начать торговать с местным населением. Но скоро заторопились обратно на свои корабли, подняли якоря и сказали: нельзя торговать с людьми, если они считают даже тогда, когда танцуют.
— Да уж, что скупы, то скупы, и каталонцы, и мы, жители южной Франции, — сказала Люсьен Мари и засмеялась.
Раз, два, три, четыре — теперь темп увеличился, и фигуры в танце закаливались высоким прыжком.
Большой открытый автомобиль нахально протискивался через толпу, но жандармы его остановили — и он был вынужден дать задний ход.
— Неужели там был доктор Стенрус? — удивился Давид.
Доктор и еще два седовласых господина на заднем сиденьи — и очень элегантный испанец среднего возраста за рулем.
Жорди долго глядел им вслед.
— Бог ты мой, какие дела могут быть у твоего земляка с Эль Бурреро? — пробормотал он, и губы его изогнулись в усмешке.
Эль Бурреро, погонщик ослов. Давид вопросительно посмотрел на Жорди.
— Возможно, я ошибаюсь, — сказал Жорди, пожав плечами. — Может обмануть освещение… Но мне кажется, я узнал человека за рулем. Негодяй, каких свет не видел. Когда-то ему удалось продать одну партию мулов нашим войскам, а деньги получить два раза — и все-таки мулы оказались по другую сторону. С тех пор его и зовут эль Бурреро.
Давид вдруг вспомнил слова Стенруса о человеке, «оказавшем правительству большую услугу…»
Нет, невозможно, Стенрус ведь психолог, человек проницательный.
— Ты, наверно, ошибся. Освещение-то какое, посмотри, факелы чадят и качаются, — сказал он. — Пожалуй, пора домой, пошли ужинать.

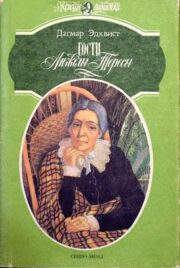
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.