Мадрида там не было. Дальнейшие изыскания в Своде законов привели их лишь к ограничениям: в одном случае разрешение распространялось на одних только шведских подданных, а в Париже, например, жаждущие сочетаться браком шведы могли это сделать лишь в свободный от праздников вторник.
— Так или иначе, а все равно, как ни верти, получается Париж, — резюмировал Давид. — В свободный от праздников вторник.
Люсьен Мари казалась смущенной. Когда консула позвали к телефону, она прошептала:
— Вчера вечером я отправила длиннющее письмо маме, и написала, что мы уже женаты. Я же думала, что мы с тобой на самом деле будем зарегистрированы, когда письмо дойдет. Пришлось мне взывать к ее романтическим чувствам.
Давид сразу все понял.
— Ясно, все дело будет испорчено, если мы вдруг теперь явимся туда, как снег на голову, а сами все еще не женаты?
Давид еще раз просмотрел весь закон.
— Если только прикинуться кочующими лапландцами. Или миссионерами в Китае. Вот для них имеется два-три гуманных исключения…
Наконец консул счел нужным пригласить незадачливых жениха и невесту с собой на второй завтрак.
— Не желаешь ли ты обвенчаться в Тегеране или Бангкоке? Или, может быть, в Иерусалиме? — с горечью обратился Давид к Люсьен Мари. И, обернувшись к консулу: — А что говорит Союз проживающих за границей шведов по поводу того, что только богатые люди имеют право и возможность сочетаться законным браком?
Люсьен Мари вдруг засмеялась.
— Нечего смеяться, — сказал Давид. — Ведь это типичный пример того, как мы тут, в Европе, опутаны законами и предписаниями, относящимися еще к прошлому веку. Мы с тобой европейцы, современные люди. Уж должны бы мы иметь те же возможности, что американцы. Наверняка те не страдают оттого, что один из них из Флориды, а другой, скажем, из Коннектикута.
— Я только подумала, что есть очень простое решение, — улыбнулась Люсьен Мари.
— Хотелось бы услышать, — хмыкнул Давид.
— Давай переедем границу и попросим мэра в первой же французской деревушке нас обвенчать.
И консул, и Давид собрались что-то сказать, но, взглянув друг на друга, сбились и умолкли.
Было как-то даже досадно, как все равно после проигрыша на международных соревнованиях — стоять вот так и смотреть, как Свод Законов бесцеремонно вытесняется Кодексом Наполеона. Но Люсьен Мари была француженка, бумаги у них в порядке, а мэр во Франции действительно имеет право регистрировать бракосочетания.
— Ты права, — согласился Давид. — Едем за границу.
— Я очень огорчен, что не смогу взять на несколько дней отпуск и отвезти вас в своей машине, — вздохнул консул; его забавляли их свадебные неурядицы, и, кроме того, хотелось узнать, чем кончится дело.
— Странно все-таки, что решение нашел человек, менее всех нас сведущий в законах, — заметил Давид.
Консул лукаво улыбнулся, но не сказал того, что думал, пока они не собрались уходить, а Люсьен Мари не скрылась в дамском туалете:
Женщины всегда гораздо хитроумнее и изобретательнее, чем мы, когда дело касается оформления брака, запомните это.
Волна тепла в марте прошла. Апрель явился в плохом настроении. Барселона была затянута дождем, когда они сели в поезд; через полдня они добрались до французской границы. Дождь и холод сопровождали их, когда они шлюзовались в таможенных очередях по ту и по другую сторону границы. Станционный поселок тоже не выглядел веселее от ненастья.
— Куда? — спросил Давид.
Люсьен Мари закрыла глаза, повернулась кругом и показала рукой — почти точно — на электричку, вот-вот готовую отойти. Они вскочили в нее наугад и вышли в какой-то горной деревушке у самых Пиренеев. Старое баскское селение, оно выглядело бы очень живописным, если бы не дождь и ветер. Затерянный мир среди диких гор.
Они отыскали гостиницу, а потом постепенно и мэра. Мэр — одетый в рабочую одежду крестьянин — возился у себя во дворе, среди старой хозяйственной утвари. Он оказался скептиком, с дотошной внимательностью просмотрел все их бумаги, как будто заподозрил, что они фальшивые, дал понять, что сначала должен позвонить об их просьбе в Париж, а будущих супругов, с сомнением покачав головой, попросил явиться на следующий день.
— Видишь, и здесь нам нельзя обвенчаться, — сказал Давид, разрезая плечом упругий горный ветер, когда они уходили от мэра. — И в самом деле, пожелать обвенчаться, как это подозрительно! Он сразу же решил, что мы авантюристы.
— Ну, что ты, он только вид сделал, — возразила Люсьен Мари, прячась от ветра за спиной Давида. Наверное из-за ветра она решила последовать примеру монахинь и спрятала руки в рукава.
— С чего ты это взяла?
— Нет, правда. Я тут разговорилась с его экономкой. У них есть корова, так она вот-вот должна отелиться, поэтому у него просто нет времени быть сегодня мэром.
Давид засмеялся, но если бы это была не Люсьен Мари, ему стало бы завидно. Люди всегда давали ему официальные объяснения, а ей они доверяли свои истинные побудительные причины — те, что всегда как-то надо оправдать перед собеседником.
— Ну, пойдем. Купим себе свадебный букет бессмертников, а завтра притащимся сюда, постаревшие еще на один день, — предложил он.
На следующее утро корова, наконец, отелилась, и у мэра появилось время быть мэром. Он потушил свой «галуаз», надел праздничный костюм, пригласил экономку и работника в качестве свидетелей, поплевал на палец и стал листать свой справочник.
Начало он прогнусавил в нос, внушительно, как мессу, но вопросы ее прокричал, как следователь на допросе в полицейском участке.
Правонарушители каждый раз вздрагивали и отвечали «да» — и стали таким образом мужем и женой. И даже получили об этом письменное свидетельство.
— Ну так как, теперь у тебя другое самочувствие? — обратился к ней Давид, когда они опять шагали по двору к калитке. Из хлева, пристроенного к дому, доносилось слабое мычание. Дождик на некоторое время перестал.
Он ожидал, что она отрицательно покачает головой и улыбнется, отвечая на его улыбку. Но она остановилась, оглянулась вокруг и серьезно произнесла:
— Ну совершенно по-другому!
Над серыми домами возвышались горы, там, на горных склонах, рождались облака — белые пушистые клочья, клубящиеся дымы, солнечные дороги из серебра — слоистый, меняющийся, подвижный мир.
— Совершенно по-другому, — повторила она и провела рукой по лбу, как будто у нее закружилась голова.
— Неужели ты это серьезно? — удивленно спросил он. — Ведь то была формальность самой чистой воды.
— Да, но не для меня. Вот стою я сейчас здесь — и фактически я совершенно новый человек. С новым именем. Новой национальности.
Что-то в ее тоне ужасно его растрогало.
— Это тебя пугает?
Вот теперь она улыбнулась и покачала головой. Он просунул свою руку под ее, и они зашагали дальше, в свободном, медленном темпе. Глубоко вздохнули, охваченные одним и тем же порывом, и одновременно произнесли:
— И не нужно будет теперь больше врать…
20. Дом Анжелы Тересы
Ливень хлестал по белым стенам, они стали серыми от стекающих по ним струй. Собственно, даже не ливень, а шуршащий весенний дождь. Но когда налетали порывы ветра и сотрясали деревья, тяжелые капли стучали по окнам и по крыше дробно, как градины.
Анунциата приоткрыла запертую из-за дождя входную дверь, и, щурясь в надвигающихся сумерках, выглянула между деревянными бусинками занавеса. Вытянула свою коричневую морщинистую шею, прислушиваясь, повернула голову сначала налево, потом направо. Ничего не видно, ничего не слышно. Она вернулась в дом и доложила об этом своей госпоже.
Анжела Тереса была одета в праздничный наряд, но сидела на своем обычном месте перед пылающим очагом на кухне. Она с волнением ожидала своих гостей, раньше, еще днем, но с каждым разом, как Анунциата возвращалась и отрицательно качала головой, становилась все более покорно-робкой, все более отрешенной, сидела тихо на своем стуле, устало, мертво отдыхая.
— Так я и знала, — промолвила она. — Их не пропускают жандармы.
— Нет, просто опоздал автобус, — успокоила ее Анунциата. — В горах шел дождь, дороги все развезло. Вот только суп-то мой вкусный остывает.
Они опять прислушались, но не уловили ни звука, кроме шума дождя и ветра. Пришла тьма и повесила на окна свое черное покрывало.
Анунциата зябко повела плечами и подложила угля и хворосту в огонь, помешала в горшочке.
— А помнишь, как мы раньше тоже поджидали их с горячим супом? — спросила Анжела Тереса.
— Нет!
— Сначала он подгорел. А потом стал соленым от наших слез. Но какая разница — все равно так никто не пришел, чтобы его поесть.
— Ну, это еще когда было. Я вообще забыла, что было тогда, — сварливо ответила Анунциата, потому что такое ожидание действовало на нервы и ей. В темноте ей было трудно стоять на страже и вовремя уследить, когда они пойдут. Разве она успеет тогда ввести Анжелу Тересу в зал, усадить в кресло и расположить на ней мантилью так, чтобы обе они произвели достойное впечатление, чтобы их не приняли за каких-нибудь там нищих старушонок, которые только и делают, что сидят и греются у горячих углей…
Если бы еще Анжела Тереса захотела ей немножко подсобить, а не сидела тут со своими вечными воспоминаниями…
— А Пако тоже не придет? — спросила Анжела Тереса.
— Нет, не придет, — отрезала Анунциата и плотно сжала губы.
— Он в тюрьме, — кивнула Анжела Тереса с безнадежной убежденностью.
Анунциата промолчала, потому что Жорди действительно сидел в тюрьме. Глупый Мартинес Жорди — повесил свою вывеску с правой стороны, когда она должна висеть с левой, или сверху, когда она должна висеть внизу — ну и конечно пришли жандармы и закрыли лавку, и взяли его. Просто удивительно, никак человек не может взять в толк, что нельзя делать ничего, что может рассердить жандармов. Конечно, другие владельцы магазинов на площади говорят, что все их распоряжения то и дело меняются, не знаешь, как за ними и поспевать — но все-таки! Другие же не попадают в тюрьму. Боже, как устаешь от людей, из-за которых вечно приходится беспокоиться!

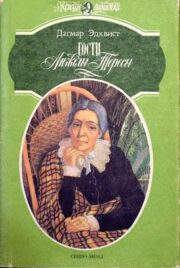
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.