— Как только…
Он умолк, так как вошла сестра и стала возиться с окном. Потом она удалилась, но появилась настоятельница собственной персоной и встала в ногах у Люсьен Мари. Она постояла немного молча, и эти секунды показались им обоим долгими, потому что они изо всех сил пытались выглядеть безмятежными.
— Меня радует, что болезнь прошла, и наступило такое быстрое и, я бы сказала, удивительное улучшение, — промолвила аббатисса, и Давиду послышались в ее тоне нотки иронии. — У нас больше нет причин задерживать здесь мадам.
Давид и Люсьен Мари обменялись взглядом, оба подумали: добились-таки. Исключат нас.
— Меня это тоже чрезвычайно радует, — произнес Давид, а сам подумал, что тон у него сейчас до смешного елейный, будто специально предназначенный для аббатиссы. — Но не стоит, пожалуй, делать слишком резкий переход — посмотрим, что завтра скажет доктор.
Это был тонкий шахматный ход — ла супериора как-то выпустила из виду врача. Но она мгновенно нашлась.
— Завтра мы узнаем, какой день доктор полагает наилучшим для выписки нашей пациентки.
Она сделала легкий поклон, как всегда держа руки в рукавах, бронзовое распятие на ее четках зазвенело, ударившись о железную спинку кровати. Выйдя, она оставила дверь в коридор приоткрытой.
Легко сказать — поехать домой. А куда? В Париж? Если бы только у нее хватило сил…
Люсьен Мари перебила его мысли:
— Давид, ты говорил с хозяйкой белого дома?
— Нет еще. С ней связаны трагические события…
И он рассказал об Анжеле Тересе и ее сыновьях.
— О, — только и могла произнести Люсьен Мари. Вся она как-то поникла и съежилась в своей постели.
— Я думал, может быть, ты не захочешь жить в тени таких страшных страданий.
Но тут она уселась в постели, и ее черные глаза заблестели.
— Бедняжка! Ее же еще и избегают, потому только, что ей пришлось пройти через весь этот ужас…
— Да, обычно люди так и делают.
— Но не ты и не я, — сказала Люсьен Мари.
— Мне кажется, нам обоим пришлось почувствовать, что несчастья все сторонятся, не правда ли? Мне уже нравится эта сеньора — как ее зовут?
— Сеньора Фелиу. Но все, по-моему, называют ее Анжела Тереса.
— Мне уже нравится Анжела Тереса. Мы поймем друг друга.
— Вот только… — замялся Давид, — о ней ходят разные слухи: что она очень странная, и даже недоступная. Боится людей.
— Еще бы, вполне понятно.
— И ты все же хочешь там жить?
— Больше, чем когда-нибудь.
Люсьен Мари опять опустилась на подушку, сказала мечтательно:
— У тебя нет такого чувства, что тот белый дом стоит и нас ожидает? И она нас ждет. Чтобы живые люди разорвали вокруг нее круг одиночества и холода.
— Это можешь сделать только ты, но не я, — сказал Давид.
— Ты же сделал это со мной, — произнесла она тихо.
— Ну что ты…
— А как ты думаешь, каково мне было в Сен-Фуа-де-Луп, пока не пришел ты? Заживо замурованная в той маленькой мертвой аптеке… Никто не обращал на меня внимания.
Он обхватил руками тоненькую фигурку в постели. И они сидели, прижавшись друг к другу, захваченные мессой своих воспоминаний, которую время от времени служат влюбленные в память о своем первом свидании.
Вдруг она вспомнила то, о чем часто думала по ночам. И прошептала:
— Видела аббатисса наши паспорта?
Насплетничать могут и документы.
Он прикрыл руками ее ухо и прошептал:
— Сержант Руис их караулит, пока мы их не потребуем.
Ему было приятно поймать ее удивленно-восхищенный взгляд: вот это мужчина, смог все так здорово устроить. Но потом в ее взгляде появилась усмешка, а в голосе некоторая настороженность:
— А что поделывает твоя ученица Фауста?
— Она не моя, — буркнул Давид с легким раздражением. — И потом она уже уехала.
Люсьен Мари опустила глаза, чтобы засветившаяся в них радость не рассердила его еще больше. Такая смена настроений была ее отличительной чертой, и они отражались не только в ее лице, но и во всех линиях еще раз.
— Что ты сказала? — спросил он, хотя она не произнесла ни звука.
Она поманила его пальцем, потом, на ухо, прошептала боязливо:
— Следует ли нам раскаиваться в том, что произошло сегодня?
— Почему это мы должны раскаиваться?
Она пробормотала что-то о монастырском уставе и нарушении доверия.
Давид, как истый протестант, возмутился:
— Доверие? Ты заболела и попала в больницу. Ты не давала никаких обетов. Их устав — не наш устав.
Она с облегчением вздохнула, когда он облек все в ясные, простые слова — потому что ведь точно так думала и она сама.
Дело было лишь в том, что иногда ей приходили в голову мысли, взаимно исключающие друг друга, и она с чувством глубокой безнадежности бросалась из одной крайности в другую до тех пор, пока кто-нибудь из тех, кому она больше всех доверяла, не выносил окончательного решения.
Давид сам часто мучился разнообразными сомнениями, но, к своему удивлению, теперь играл роль человека, принимающего решения и выносящего безапелляционные суждения.
Никто раньше не требовал от него чего-либо подобного. Младший брат, слишком юный супруг…
У него появилось ощущение, будто все высокие деревья в лесу вокруг него оказались вдруг сваленными ветром, он стоял совершенно беззащитный под высоким небом. Но рядом с ним находился кто-то другой, едва достигавший ему до плеча…
Это было сладостное чувство.
Из монастыря Давид спустился другой дорогой, через рощу пробковых дубов Педро Фелиу. Стволы их были наполовину ободраны и черны, как будто их обожгло огнем.
Старая собака подошла к нему и близоруко обнюхала его брюки. Она задрожала от удовольствия, когда Давид почесал ей за ушами.
Дом Анжелы Тересы стоял там, где начиналось все великолепие долины. На этот раз Давид подошел к нему с задней стороны, по заросшей тропинке между какими-то одичавшими зарослями, кустами и бамбуковыми рощицами, в два раза выше человеческого роста.
Зазвенел колокольчик, и из дома вышла Анунциата с кринкой в руке. Она остановилась, поставила кринку и засеменила ему навстречу, восклицая хриплым басом, как многие старые женщины в Соласе:
— А, это вы! А я уж решила, что вы передумали и уехали.
Она вытерла пальцы о передник, и они поздоровались за руку. В самом ее приветствии было больше тепла, чем в словах. Давид подумал с удивлением: Люсьен Мари права, они нас и в самом деле ждут.
Анунциата продолжала:
— Как-то вечером приходил Мартинес Жорди и говорил с Анжелой Тересой. Уже давненько теперь пожалуй.
Значит, Жорди поборол все-таки свое сопротивление и навестил старых друзей.
— Жена моя заболела, вот в чем дело, — вздохнул Давид. — Она еще лежит там, в горах, у монахинь в больнице.
— У las monjas[11]? — спросила Анунциата и почему-то рассмеялась. Это было лишь хриплое эхо того смеха, которым она смеялась в молодости. Когда-то он наверно напоминал нежную птичью песенку.
— Ваша госпожа может меня принять? — спросил он.
— Она не совсем подготовлена, — пробормотала Анунциата нерешительно.
Давид прожил в Испании достаточно долго, чтобы понять все хлопоты, связанные с приходом в дом гостя и со встречей с женщиной, безразлично, с молодой или старой, которая не была подготовлена.
— Подождите-ка там, — посоветовала старая служанка и показала на сад. — Я ей скажу о вас, может быть, она захочет вас принять.
Давиду пришлось запастись терпением, потому что прошло четверть часа и еще четверть.
В этот его приход лужайки были уже ярко зеленые, а на многих деревьях за эти несколько недель появилась листва. Невдалеке стоял готовый распуститься куст сирени. Нет, не сирени, хотя очень похожий по виду. Вероятно, одичавшее комнатное растение, он не мог вспомнить названия. Пеларгония? Фуксия? Бальзамин? Когда цветы распустятся, он наверно вспомнит.
Здесь, в долине, упрямый ветер не чувствовался. Все было тихо, усыпляюще тихо — это означало, что тишина была полна приятных, однообразных звуков. Жужжали насекомые, высокая струя источника все лилась и лилась, журча и поплескивая в своем стеклянно-прозрачном падении.
Давид сидел на заросшей мхом ступеньке, и ему казалось, что само неиссякаемое время все течет, течет, и не видно ему ни конца ни края. Но вскоре он забыл и о времени.
Здесь, сказал Жорди, — она обычно сидела и смотрела, как играли ее мальчики…
Сегодня, в том настроении, что царило вокруг, их игры и улыбка матери казались более реальными, чем все то страшное, что пришло позже.
Дробно зашуршал занавес из бусин. Анунциата поманила его к себе. Когда он подошел, она произнесла официальным тоном:
— Сеньора Фелиу рада принять Вас у себя, — и повела его через обычные сумрачные сени в зал, похожий на чистую горницу в шведском крестьянском доме, только более богатом и солидном. Там стояла тяжелая, темная резная мебель. Она не была античной, эта мебель, не было в ней прелести старых, потертых от времени вещей, отличавшей здесь все другие предметы домашнего обихода. Она была точно такой, какую должен был купить себе внезапно разбогатевший испанский крестьянин лет сорок — пятьдесят тому назад, чтобы убедить себя в своем благосостоянии.
Однако и на мебели, и на всей комнате, выбеленной, с метровой деревянной панелью и темными потолочными балками, лежала печать неизъяснимого благородства и достоинства. Пол тоже был темный, бесчисленное множество раз покрывавшийся лаком, пока не приобрел прозрачного, стеклянного блеска. Давид бессознательно ставил ноги так, как будто шел по льду, направляясь к старой женщине в кресле у окна.
У нее были снежно-белые волосы, высоко подобранные черепаховым гребнем, и лицо такое бледное, как будто все эти тринадцать лет она не покидала комнату. Как почти все женщины ее поколения, она была одета во все черное, с кружевной мантильей на волосах и со сложенным веером на коленях.

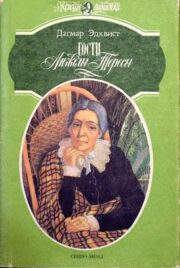
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.