Его кинуло в жар. Брошенный в него камень говорил о такой необузданности, что его самообладание выглядело уже странным. Рукоприкладство взывало к рукоприкладству.
Ну нет, такой язык он не признает. Если ей так хочется побоев и совокуплений, пускай выпрашивает у других. У пресловутого Хенрика, например.
Он двинулся дальше. Оделся, направился к городу. Сжавшаяся в комок фигурка так и осталась сидеть на песке.
Боже, как устроена жизнь. У человека, может быть, была идея — никогда никого не обижать, но как ни повернешься, все кого-нибудь да заденешь. То, что тебе кажется добротой, другой воспримет как жестокость. А грубая жадность может иногда обернуться чуткостью и сочувствием.
Давид посмотрел на берег, и внезапно он показался ему отвратительным. Красный песок, синее море, пенистый прибой — да, конечно. Но чего-то не хватает. Кажется, и раньше не хватало, чего-то существенного. Только чего?
Внезапно до него дошло: чаек. Чайки не кидались, голося, на отбросы с рыбачьих шхун, не прочерчивали на ветру прихотливых сверкающих узоров.
Красиво, как на открытке, даже как на картине, но не нравится мне такое бескрылое пространство, подумал он.
17. Ветер из Сахары
Оккупированная страна. Земля, где разыгрываются бои. Оборонительные силы, отступающие вначале, но потом изгоняющие оккупантов сперва из одного пункта, затем из всех других.
Сначала Люсьен Мари почувствовала себя лучше «сама». Потом начала поправляться рука, боли под мышкой прошли, опухоль опала, ночью она больше не лежала без сна.
Она почувствовала себя выздоравливающей.
А тем временем на испанскую землю продолжали дышать теплом ветры из Сахары.
— А я сегодня вставала, — сказала она однажды вместо приветствия, когда Давид вошел к ней, загоревший, с курткой, перекинутой через руку.
Жалюзи из деревянных реек раскачивались на ветру, пропуская рассеянный, не слепящий солнечный свет.
— Наконец-то! Значит, скоро будешь дома, — обрадовался он.
Дома! Где же это, интересно?
— Ну, это еще ничего не значит… — Она пошевелила своей перевязанной рукой. Маленькая аккуратная повязка, а не пакет с ватой, похожий на… Они помнили, их взгляды встретились. Люсьен Мари произнесла, прерывисто дыша:
— Давид… мне приснилось…
Он кивнул.
— Ты знаешь об этом? Я бредила, да?
— Да, — ответил он и провел ладонью по ее щеке.
Она спросила сдавленным голосом:
— А другие? Они не слышали? Не поняли они, что…
— Нет, как раз в тот момент я был там с тобой один.
Они помолчали немного. Потом она тихо сказала:
— Знаешь, это было реальнее, чем в жизни, мне показалось тогда, что незачем больше жить, лучше умереть, когда я увидела, что ошиблась.
Он вспомнил и то утро, когда она все плакала и ее сотрясала лихорадка. Он мог бы догадаться уже и тогда. Вспомнил, как она дрожала, как взволновалась, когда маленький Хосе пытался сосать ее голую руку.
Она продолжала, тем же напряженным, дрожащим голосом:
— Но самым удивительным было все-таки не это. А то, что я была я — но вместе с тем та, другая…
Он поднялся, сделал несколько шагов к окну, постоял, глядя на вечнозеленое дерево. Он уже знал, что за этим последует, знал еще до того, как она это произнесла, оборонялся заранее.
Она испугалась и замолчала. Но молчание ее было хуже, чем слова.
— Говори, — промолвил он, не оборачиваясь.
Она произнесла прерывистым шепотом, как под тяжестью вынужденной исповеди.
— Я была Эстрид. Я была она, когда у нее должен был родиться ребенок. Я думала: наконец-то, я так долго тебя ждала…
Он молчал, поэтому она продолжала шепотом:
— Откуда у меня это взялось? Ведь я ее даже не видела. И не знаю о ней ничего, так, только с твоих слов. И все-таки — я была ею. Как будто наследство получила от незнакомки.
Но ведь так оно в сущности и есть, подумал Давид. В этом отношении все они как-то сливаются вместе, все женщины до единой. Превращаются в одну космическую женщину, без всяких индивидуальных признаков. И такими тогда становятся для нас чужими…
— Давид, — сказала она, глядя на его спину. — Давид, я тебя мучаю? Иди сюда…
Когда он подошел и сел на край кровати, она положила ему руку сзади на шею, притянула его лицо к своему.
Ветер из Африки дул все сильнее.
Она больше не была больной, она была горячей, обновленной, в ней кипели силы вернувшегося к жизни человека.
Внутренний протест у Давида вспыхнул с новой силой — как только что, когда он стоял у окна, всем существом ощущая, как бьется у него сердце.
Вот лежит Эстрид, рассудительная, несчастливая, никогда не получавшая от него того, что просила. Поэтому она и оставила в нем такую боль, такой несглаживающийся шрам — рваный, болезненный: скупой благодетель, ускользающий должник.
А вот другая — зеленоглазая, колючая, не признающая никаких законов. Та, что бросила в него камень, раз не получила того, что хотела.
Теперь он должен отдать им свой долг…
И вот, наконец, она, его любимая, его Люсьен Мари, та, что зажгла в нем огонь, — но за ее лицом таились те два, другие.
Ветер из Африки шуршал в рейках жалюзи.
Она сумела разгадать его тайну — принимать любовь, даже если она приходит к ней со сжатыми кулаками и искаженным лицом, освобождать ее, преображать. До самых глубин существа делать его необузданным, гордым и свободным — а потом, в то мгновение, когда останавливается дыхание — счастливым до полного самозабвения. Тогда сотрясается земля, и тогда, как лава, тают границы его души.
Потом лава застывает и человек опять возвращается в свою постоянную форму — но у тела остается воспоминание о том, как это было, воспоминание о своем расплавленном состоянии.
Они ощущали глубочайшее отдохновение, они были далеко, далеко. Время, не измеряемое никем, длилось бесконечно. Возможно их оцепенение продолжалось не более, чем миг, нужный лепестку, чтобы оторваться от стебля и в медленном скользящем полете опуститься на каменные плитки дворика. А может быть, и все время, пока чья-то робкая рука перебирала регистр органа, разучивая хорал, едва доносившийся сюда из монастырской часовни по другую сторону двора.
В это время одна из монахинь, совершая обычный обход, решила зайти к Люсьен Мари. Она приоткрыла дверь, но тут же в ужасе ее захлопнула. Это была сестра Флорентина, рыхлая, в круглых очках, простая женщина, она испытывала великий страх перед всем, что запрещено монастырским уставом.
Придя в себя, она поспешила в покои аббатиссы. Она шагала так быстро, как только ей позволяли ее тяжелые башмаки и сковывающая тело одежда, и влетела в комнату аббатиссы, не дожидаясь, пока ее начальница скажет: «войдите»!
Настоятельница сидела за своим письменным столом и делала записи в журнал. Стол был роскошный, в стиле испанского ренессанса, он мог бы украсить любой дворец. Аббатисса сдвинула брови у нее была аристократическая неприязнь к легко возбуждающимся женщинам.
— Почему вы так пыхтите, сестра Флорентина? И входите, даже не постучав?
— О досточтимая матушка, — задыхаясь, произнесла сестра Флорентина, держась за свои вздымающиеся перси. — О досточтимая матушка…
— Что случилось?
Сестра Флорентина маленькими круглыми глазками впилась в свое духовное начальство и промолвила:
— Этот иностранец… этот господин лежит в постели французской дамы.
Настоятельница приподнялась со стула, кровь прилила к ее увядшим щекам, но потом медленно отлила обратно, точно так же, как она сама, постепенно овладев собой, спокойно и неторопливо опять опустилась на стул.
— Ну и что? — произнесла она. — Сейчас у нас сиеста. Дорога сюда, в горы, долгая и тяжелая. Без сомнения, этот господин, к тому же иностранец, почувствовал себя утомленным и прилег отдохнуть.
— Но досточтимая матушка! В постель к пациентке!
— У иностранцев вообще очень странные нравы, — сказала аббатисса сухо. — Кстати, они женаты.
Если она и обладала скепсисом умудренного жизнью человека, то сестре Флорентине она его не показала.
— Но что же нам делать? — недовольно пробурчала сестра Флорентина; сделанное ею сенсационное открытие у нее на глазах уходило в песок.
— Предоставь это мне, — кивнула аббатисса.
Когда сестра Флорентина с неуклюжим поклоном вознамерилась уйти восвояси, ее собеседница распорядилась:
— А вы, сестра, можете спокойно удалиться куда-нибудь в тихий уголок и трижды прочесть там Отче наш.
Настоятельница осталась сидеть, погрузившись в размышления. Вероятно, мысленно она сделала для себя небольшую пометку в календаре на своем роскошном письменном столе.
Слышали ли они, как закрылась дверь?
Скорее всего, нет. Орган, на котором монахиня разыгрывала свои упражнения, издавал множество самых разнообразных звуков. Но Давид вдруг заторопился.
— Галстук правильно завязан? — спросил он, потому что в комнате не было зеркала.
Классический час уныния и запоздалого раскаяния.
Хотя нет, здесь этого не было.
Он стоял над ней и улыбался, через него еще перекатывались волны возвышенной радости.
— Послушай-ка, а время не опасное?
Она посчитала на пальцах. Да, опасное. Оно всегда опасное. От внезапного страха она съежилась под своим одеялом. В этот момент она была истой француженкой, очень далекой от мыслей, когда-то одолевавших Эстрид.
— Поздно теперь раскаиваться, дорогая, — сказал Давид с сочувствием.
— Этого мы не знаем.
— Да, конечно. А сама-то ты знаешь?
— Нет… А когда мы сможем обвенчаться? — спросила она, даже не пытаясь выдать себя за героическую женщину.

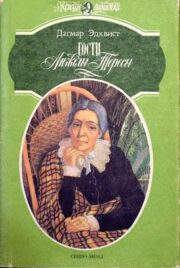
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.