— Не можете ли вы пока переговорить с сеньорой Фелиу?
Жорди покачал головой, опять надел на себя маску отчужденности.
— Я не люблю туда ходить. Власти должны помнить только, что она мать Хосе.
— Но… — начал Давид, его возмущала привычка Жорди рассматривать себя как парию, как человека, загрязняющего людей одним своим присутствием. Он не закончил, уловив взгляд Жорди, усталый, умудренный долгими годами притеснения, немного даже насмешливый.
— Кроме того, — продолжал Жорди, как будто не замечая, что его перебили, — я ей напомню об Эстебане. Но Анунциата иногда заглядывает ко мне, когда идет за покупками, вот я и спрошу у нее.
Давид протянул Жорди руку и вышел на улицу.
Как раз вовремя, чтобы зайти за Люсьен Мари и идти завтракать.
12. Лихорадочные горы. Лихорадочные заросли…
Кажется, Люсьен Мари прилегла отдохнуть. Он остановился перед дверью и бесшумно ее открыл.
Она лежала одетая на покрывале, не слышала, как он вошел. Подняв одну руку над постелью, она беспрерывно меняла положение, как будто сильно страдала. Дыхание вырывалось с хрипом, похожим на всхлипывание, но глаза были сухие, широко открытые. Лицо ее выглядело настолько неприкрыто испуганным, что у Давида вдруг прервалось дыхание.
— Ты больна? — спросил он, с трудом взяв себя в руки.
Он подошел к ней с робостью, охватывающей человека, когда нечто хорошо знакомое внезапно обнаруживает чужие, незнакомые черты.
— Помоги мне… блузку… руку… она распухла…
Блузка была с короткими рукавами. Правый легкий, свободный, а левый туго натянут… Ей пришлось приподняться, чтобы он смог достать пуговки на спине, но когда ее ноги коснулись пола, она потеряла сознание. Просто тихонько осела, он едва успел ее подхватить, а то бы она упала на пол.
Он положил ее на кровать, в отчаянии долго возился с пуговицами, снял широкий рукав, но не сумел стащить узкий. Кожа ее пылала под его руками. Эта раздутая, напряженная рука вызывала у него тошноту — он поискал ножницы, не нашел, взял нож, которым чинил карандаши и с трудом разрезал рукав. Прикосновение причинило ей боль, она со стоном очнулась.
Тут Давид увидел красные полосы на внутренней стороне предплечья.
Он наклонился над нею, произнес отчетливо:
— Лежи спокойно… Я схожу за врачом.
Она открыла глаза.
— Порошки, — пробормотала она. — Посильнее. Чтобы я могла попасть на самолет завтра рано утром. Я должна… Я не могу лежать здесь…
Но те три идиотских автобуса… Как она доберется до Барселоны — сначала на одном, потом на втором, потом на третьем?
Ему хотелось попросить Консепсьон подняться к Люсьен Мари, но его испанский вдруг отказал. Испанский язык у него держался пока где-то на поверхности, его легко смывало первой волной, как только наверх подымалось течение из более глубинных слоев. Французский укоренился покрепче, в особенности в разговорах с Люсьен Мари, но в случае острой необходимости самым надежным оказывался вероятно все-таки один только шведский.
Рыбаки, топтавшиеся на углу улицы, и несколько фланирующих английских туристов с удивлением оглянулись на мужчину, бежавшего по улице бегом.
В спешке он заблудился в узких улочках, пришлось спрашивать у прохожих дорогу и бежать обратно. Но вот наконец и вывеска врача, доктора Вилларойя.
В темной приемной сидело вдоль стен несколько человек — он их увидел, как в тумане. Постучал в какую-то дверь, и, не дожидаясь ответа, вошел к красному и разгоряченному молодому врачу, безуспешно пытавшемуся посветить в горло ревущему мальчишке. Робкая тщедушная женщина из народа трясла сынишку и одновременно всячески извинялась перед доктором.
— Что вам здесь нужно? — зарычал доктор с досадой и облегчением одновременно. — Ждите своей очереди. Вы же видите, в приемной полно пациентов.
— Но это так важно, у нее рука как… да, как при укусе змеи…
Опять испанский подвел его.
Доктор повернулся к Давиду спиной и сказал женщине неожиданно добрым, мягким тоном:
— Подождите там, матушка, и скажите другим — я скоро вернусь. Карамба, ведь сейчас весна, и какого-то туриста угораздило… ну да, его укусила змея…
Когда они вышли на улицу и пошли рядом, роли переменились. Без белого халата, придающего человеку важность и достоинство, врач оказался тонким, стройным молодым испанцем с напомаженными волосами, кокетливыми усиками и блестящими черными глазами. Если этим и ограничивалась медицинская помощь в Соласе, ситуация выглядела угрожающей.
— Где человек, которого укусила змея? — спросил он, когда Давид остановился перед дамской парикмахерской.
— Здесь, наверху, — сказал Давид и начал подниматься по лестнице. — Только змея ее не кусала…
Тут он вспомнил, что нужно предупредить о притолоке, и это рассердило доктора, который до нее не доставал.
Лицо Люсьен Мари еще больше, чем прежде, без слов говорило о том, что дело плохо.
Доктор сразу же ее узнал. Это он вчера сказал ей, что рана так хорошо заживает.
У него покраснел лоб, а увидев ее руку, он не стал попусту тратить слова.
— Снаружи рука зажила, но вглубь попала инфекция, — пробормотал он, открыл свою сумку и поставил градусник в рот Люсьен Мари.
Давид побледнел, у его рта появились складки.
— Выйди, Давид, — пролепетала Люсьен Мари, протянув ему свою здоровую руку.
Он наклонился и поцеловал ее.
— Не открывайте рот, — нахмурился доктор, встряхнул градусник еще раз и снова его поставил, укоризненно взглянув на Давида. С испанской корректностью он добавил:
— Может быть, ваш супруг предпочитает остаться?
Немыслимо же оставлять мужчину наедине с дамой в постели — если даже это врач и пациентка.
Он вынул у нее градусник и ничего не сказал. Проверил ее пульс и ничего не сказал. Послушал сердце — с Давидом в качестве свидетеля — и снова ничего не сказал.
— Давид, скажи ему, что завтра рано утром я должна успеть на самолет в Париж, — сказала Люсьен Мари слабым голосом.
— Отсюда не идет никаких самолетов, — буркнул доктор.
Давид, как мог, объяснил ему, что в Барселоне у них уже заказан билет.
Доктор поманил его, и они вышли за дверь.
— Она не может поехать?
— Совершенно исключено. У нее злокачественная инфекция в очень тяжелой форме. Лимфатические железы как узелки.
— Это… серьезно?
— Конечно! Ее нужно немедленно лечить. Никак только не могу понять…
— Не понимаю, — сказал Давид одновременно с ним. — Она ведь чувствовала себя неплохо.
(Разве? Он вспомнил некоторые мелочи, на которые раньше не обратил внимания.)
— Сегодня утром мы с ней долго гуляли…
— А, теперь понятно! Не удивительно, что все пошло так быстро, — возмутился доктор. — Это все равно, что накачивать инфекцию в кровь. Я должен позвонить в монастырскую больницу.
— Она единственная здесь?
— Да. У вас есть телефон?
Нет, Консепсьон не обзавелась телефоном. Давид ухватился за одного из мальчиков Вальдес и послал его к Гонзалесу за такси.
— Но мне же нужно домой, — Люсьен Мари заплакала от сознания своего бессилия.
Давид закутал ее в плащ, но она сама спустилась по лестнице, землисто-серая, с подгибающимися коленями.
Консепсьон высунулась из своей парикмахерской, ее голос стал низким и глубоким от сострадания:
— Матерь божия, какое несчастье! Бедная сеньора, как же она так заболела!
Она сразу же взяла па себя функцию античного хора: сама печалилась, сама объясняла происходящее и привлекала к нему внимание. Когда Люсьен Мари садилась в такси, вся улица оказалась уже заполненной зрителями.
Она спрятала лицо измученная, на плече у Давида. Самое невинное любопытство непереносимо для того, кто даже в целях самозащиты не может заставить себя улыбнуться.
Они сидели, прижавшись друг к другу, в молчании перед тем, что разрушило все их планы. Под своей рукой он чувствовал ее пылающую кожу.
Давида мучили горькие угрызения совести, Почему он ничего не замечал? Ее слабость и необъяснимые рыдания вчера должны были бы послужить для него предостережением, что тут что-то не так. Но раньше у него не было привычки заботиться о ком-нибудь другом.
Однако был же он женат?
Да. Но болел и соглашался принимать заботы и уход он — а Эстрид их только ему оказывала, как всегда, молчаливо, добросовестно. Ему не довелось испытать, как бывает, когда роли меняются.
Люсьен Мари была гораздо импульсивнее, в любой момент от нее можно было ожидать непредвиденного поступка, как, например, сейчас, с больной рукой: кинулась к нему из Парижа, хоть разум должен был подсказать ей, чтобы она сидела тихонько на месте и ждала, пока выздоровеет. А когда заметила, что болезнь не проходит оттого, что на нее не обращают внимания, а становится хуже, то преисполнилась страха, что будет Давиду в тягость, и притворялась здоровой в надежде успеть домой.
Может быть, такая реакция была типично женской? В качестве юриста ему приходилось слышать о случаях, когда девушки молчали и таились до последнего момента, пока в один прекрасный день не валились с ног, рожая ребенка прямо на кухонном полу у своих хозяев.
Но в тех случаях дело объяснялось стыдом, имеющим социальные причины, он не мог иметь места в случае Люсьен Мари. Или мог? Может быть, здесь сказалось неосознанное смущение девушки из французской семьи перед элементом незаконности в их отношениях? Он же не мог заставить себя говорить «моя жена». И ей тоже казалось неестественным думать о нем как о «моем муже», о «моем супруге в горе и в радости», в доме которого ее настигла болезнь. В глубине души оба они все еще были любовником и любовницей, играющими в женатых людей.

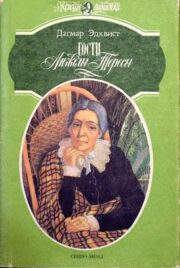
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.