Давид молча поклонился подобной осведомленности.
— Какая у вас красивая усадьба, — обратился он к старому садовнику.
Но садовник отмахнулся от похвалы. Усадьба не его, она принадлежит Анжеле Тересе. Он только арендует землю.
Бросив на старика вопросительный взгляд, они прошли дальше, к самому дому.
Навстречу им вышла старая собака, тявкнула было, но решила не затруднять себя лаем, а удовлетворилась тем, что последовала за ними.
Там, где кончалась апельсиновая аллея, оказалась просторная, неправильной формы лужайка, заросшая травой и окруженная пышной, почти тропической растительностью. Агавы теснились в зарослях бамбука — или это был сахарный тростник? Деревья с хвоей, похожей на изысканные кружева, пропускали рассеянный солнечный свет, другие деревья, настоящие исполины, стояли с набухшими почками на всех ветвях.
За лужайкой располагался дом, белоснежный, широкий, с наклонными наружными стенами. Шире всего он был у основания, казалось, он уходил в землю корнями. Дом выглядел странно слепым: окна в своем восточном оформлении создавали впечатление забитых раз и навсегда, а единственная дверь была поразительно мала и низка. Можно было подумать, что дом нежилой, если бы не распахнутая половинка двери. Однако вовнутрь заглянуть было нельзя: ее закрывал занавес из деревянных бус.
Это был таинственный дом. Таинственно притягательный дом. Не было видно ни души.
Пройти к нему можно было также по тропинке в траве. Рядом виднелся источник с замшелыми ступенями и надстройкой из каменных столбиков. Дальше шла насосная установка и цементированный бассейн, вода в нем непрерывной и упругой дугой струилась вниз из высокого носика. Все вместе покрыто красивой плетеной крышей из бамбука или тростника. Здесь и там разбросаны тачки, ведра, всякий другой садовый инвентарь, — все старая хозяйственная утварь, но очень изящной формы.
Люсьен Мари стремительно повернулась к Давиду.
— Ты прав! Не нужны нам американские игрушечные домики. Только здесь, Давид…
Низкая, мягкая, теплая от солнца трава, истоптанная поколениями и все-таки свежая, зеленая, как бархат… Ей хотелось сбросить с ног туфли и побегать по ней босиком.
— Хм. А я стою тут и размышляю, как стучат в занавес из бус…
Из-за занавеса высунулась чья-то голова, так внезапно, что они отпрянули назад. Маленькая, сгорбленная женщина показалась наполовину, деревянные бусы зашуршали и легли, как фата, на ее плечи. Одета она была в черное выцветшее платье, волосы тоже были черные и выцветшие, а глаза выцветшие и коричневые.
— Сеньора Анжела Тереса? — спросил Давид. Это имя он слышал здесь уже несколько раз.
Женщина, как и садовник, отмахнулась:
— Нет, нет… Анжела Тереса никого не принимает.
— Дом кажется таким большим. Мы и подумали, нельзя ли тут снять одну или две комнаты.
Женщина опять испуганно отмахивается обеими руками:
— Нет, нет… Анжела Тереса не сдает комнаты.
Давид и Люсьен Мари посмотрели друг на друга, пожали слегка плечами, окинули прощальным взглядом кружево кедров, источник с его струей и бамбуковой крышей, и сладостную зеленую траву.
Маленькая щуплая женщина, едва достававшая Давиду до локтя, приблизилась к ним на шаг, спросила своим хриплым голоском:
— Как вы сюда попали? Кто вам говорил об Анжеле Тересе?
Никто, чуть было не вырвалось у Давида. Но потом он вспомнил и поправился:
— Франсиско Мартинес Жорди, — ответил он, глядя на маленькую женщину.
— Мартинес Жорди? — повторила она, посмотрела на него неуверенно — и исчезла за занавеской из бус.
— Ну, теперь я напутал ее по-настоящему, — с досадой крякнул Давид.
— Подожди, — успокоила его Люсьен Мари.
И действительно, через некоторое время женщина опять высунула голову.
— Анжела Тереса не может принять вас сегодня, — сказала она усталым и печальным голосом, как будто разочарованная и огорченная, и прибавила шепотом: — но приходите еще…
Теперь их по-настоящему разбирало любопытство. Кто же такая Анжела Тереса? Когда они возвращались домой, Давид спросил:
— Тебе не показалось, что дом какой-то одинокий и заброшенный? Хотя он рядом с городом и в нем кто-то живет.
— Да, дом действительно какой-то мертвый, — отозвалась сразу Люсьен Мари.
В ее памяти всплыли картины сельской жизни в усадьбах ее детства: люди за работой, дети, животные, старики, машины, вещи — все движется, все живет. И раздаются все звуки, какие есть в букваре: петух кукарекает, собаки лают, гуси гогочут, коровы мычат, кошки мяукают. На этой же усадьбе мертвая тишина, молчала даже старая собака.
Ну да, случалось, конечно, что в какой-нибудь усадьбе не было детей. Или, допустим, где-нибудь могли не держать домашних животных, а довольствовались тем, что обрабатывали землю. Апельсины ведь не шумят и не возятся.
— А ты заметил, — продолжала Люсьен Мари, — что все дороги там заросли травой? Как будто никто уже туда больше не ездит.
Утреннее солнце, пробивающееся через переплетение ветвей и льющееся на эту тихую траву Струя источника в своем вечном падении — изящно очерченная арка в тени, но разбивающаяся на бриллиантовые брызги там, где к ней прикасается свет.
— Так мы можем вообразить, что это заколдованный замок, — кивнул Давид. — Ну, а если посмотреть на вещи трезво, как тебе кажется, это усадьба барская или крестьянская? Люсьен Мари тоже этого не поняла.
— Пойдем и спросим у Жорди, — предложила она.
Но тут ее вдруг охватила ужасная слабость, и когда они дошли до города, она предложила ему пойти одному: тогда, может быть, Жорди будет более откровенным.
— У тебя болит рука? — ему показалось, что у Люсьен Мари какой-то странный вид.
— Немножко, — ответила она уклончиво. — Пойду-ка я домой и уложу свой чемодан.
Но про себя подумала: не иначе как у меня грипп, теперь я это чувствую ясно. Хорошо бы завтра успеть на самолет, прежде чем болезнь меня совсем здесь уложит.
И внезапно она оказалась во власти страстного желания: порошок аспирина, большой стакан воды, тихая и одинокая постель в тихой и одинокой комнате. Никого не ублажать. Целомудренная тетя Жанна в шаркающих войлочных шлепанцах.
Давид застал Жорди в лавочке одного. У него было обычное застывшее выражение мертвенной серой терпеливости: человек, который ничего не ждет, ни на что не надеется. Может быть, последняя искра бунтарства вспыхнула в нем, когда он угостил Давида стаканчиком вина со значением? Теперь он производил впечатление человека, лишенного всяких импульсов, всякой инициативы.
Давид сделал попытку что-нибудь у него купить — сигареты, спички… У Жорди не было ни того, ни другого. Тогда Давид купил несколько плохих открыток с видами Соласа и сказал:
— Сегодня мы ходили вверх по реке, до красивой старой усадьбы. Владелицу, кажется, зовут Анжела Тереса. Это вы о ней говорили?
— Анжела Тереса Фелиу. Да, я имел в виду ее.
— Она не захотела нас видеть.
— Анжела Тереса боится людей.
— Как? Почему?
Жорди сказал ровным сдержанным тоном:
— У нее были свои… горести.
Человек должен отвечать, когда люди спрашивают; но это и все. Отвечать так, чтобы стало не на много яснее.
— Как вы думаете, согласится она сдать нам две-три комнаты? — спросил Давид, потому что сейчас его интересовало только это.
— Если бы вы могли с нею поговорить… — замялся Жорди.
— Иногда поговорить с человеком совсем нелегко, — сказал Давид многозначительно.
После того, как появилась Люсьен Мари, Жорди опять ушел в свою раковину, как это обычно делают все одинокие и легко ранимые люди.
Он бросил на Давида быстрый взгляд, немного менее безразличный, чем прежде.
— В этой стране есть много длинных ушей, — покачал он головой. — Человек здесь привыкает говорить, ничего не сказав. В конце концов оказывается, что и говорить нечего. И мыслей никаких нет.
На это нечего было ответить.
Жорди исчез за занавеской из материи, похожей на мешковину. Давид успел заметить, что в его закутке размером с чуланчик, не более, стояла солдатская раскладушка с вытертым серым суконным одеялом. Очевидно, это был весь его дом.
Жорди появился с бутылкой самого дешевого вина и двумя рюмками, налил одну Давиду, другую себе.
— Моя очередь, — сказал он и на мгновение стал мягче и свободнее в манере держаться при мысли о том, что угощает он. — Вы хотели услышать историю Анжелы Тересы?
— Если это не тайна, — сказал Давид.
— Нет, эта история не из таких.
Давид ждал, по Жорди, казалось, потерял способность свободно с кем-либо общаться. Слова у него умирали, прежде чем дойти до губ. Он сделал быстрый глоток из своей рюмки.
— Анжела Тереса, — промолвил Давид тихо, прислушиваясь к красивому звучанию этих слов, — молодая и знатная дама, наверно?
— Анжела Тереса? — переспросил Жорди и коротко рассмеялся. Смех его походил на сухой кашель. — Нет, ее сыновья были бы сейчас мужчинами среднего возраста, а старик Фелиу вообще простого происхождения, хоть и заработал небольшое состояние, когда был управляющим, так что смог купить себе эту усадьбу. Нет, Анжелу Тересу не назовешь знатной дамой.
Для Давида два слова заслонили все другое: были бы…
— А сыновья?.. Они?..
— Нет их, обоих, — произнес Жорди совершенно невыразительным тоном. — В гражданскую войну они оказались по разную сторону баррикад.
— Как ужасно для родителей! — вздохнул Давид.
— Для Анжелы Тересы, — поправил сухо Жорди. — Папаша Фелиу был хитрая бестия, старый крестьянин, не доверявший никакому правительству. Вначале ему даже казалось, он в выигрыше, раз сыновья по обеим сторонам…
— А сами сыновья были врагами?

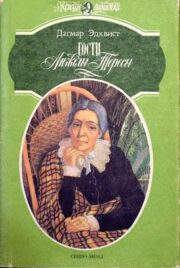
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.