Эль вигилянте выслушал их пожелания и сказал, что может предложить им прекрасное жилье: дом, настоящий дом для семьи. Владелец принадлежит к одной из самых старых семей города, но сам находится на дипломатической службе.
Их повели к тому самому дому на площади, у которого были изысканные чугунные решетки на балконах и лестницах. К сожалению, такие же великолепные решетки были и на окнах, и весь интерьер тоже был в восточном стиле, строгий, тяжелый.
— Хотела бы ты здесь жить? — спросил Давид.
— При условии, что стану пить шербет и у меня будет любимый евнух, — засмеялась Люсьен Мари.
Когда эль вигилянте заговорил о пятнадцати комнатах и о квартирах для слуг, Давид поспешил объяснить, что ему хотелось бы что-нибудь посветлее — может быть, даже па окраине города.
Отлично — у эль вигилянте есть еще ключи от виллы, построенной наверху, на склоне горы, одной американской дамой, сейчас она как раз в Америке.
А квартирная плата?
Невысокая, как ему кажется.
Они забрались на крутой склон к оштукатуренному белому бунгало с красной черепичной крышей. Оно красовалось там, белоснежное и яркое среди вечнозеленых растений, с восхитительным видом на залив. Американские удобства, испанские мозаичные полы и увитые розами галереи. Оказалось, там всего четыре комнаты, но они были полны воздуха и света, и потом там имелось абсолютно все, начиная от обитых ситцем шезлонгов и кончая рюмками для коктейля и купальными простынями пастельных тонов. Никогда Давид не предполагал, что Люсьен Мари проявит такое страстное желание жить в этом доме.
Но ах! — когда они пришли в квартирное бюро и услышали «дешевую цену», то прямо побледнели. Уехавшая мадам облекла свои пожелания в твердую валюту.
Давид увидел, какой усталой и огорченной выглядела Люсьен Мари, и взял ее под руку, когда они побрели домой.
— Знаешь, по-моему, для нас это было бы слишком слащаво, все равно как в кинофильме. Слишком уж отдает причудами американской дамы в этой суровой стране.
— У меня у самой дамская фантазия, — жалобно произнесла Люсьен Мари. Она была безутешна.
Ее туфельки не годились для всех этих крутых тропинок, она решила купить испанские веревочные туфли.
— Есть у меня здесь один друг… — начал Давид и повел ее в лавочку Жорди.
Жорди вышел к ним навстречу. Покрытое коричневыми веснушками лицо его было, как всегда, бледно. Он и виду не показал, что знает Давида. Вероятно, это должно было означать: на знакомство не претендую.
— Франсиско Мартинес Жорди — моя жена, — представил их друг другу Давид. Консепсьон поставила их в затруднительное положение, теперь он везде был вынужден представлять Люсьен Мари как свою жену.
Жорди не выразил удивления, он вообще не выказал никаких чувств, робкий и замкнутый, как всегда. Молча и сдержанно достал туфли, которые у него попросили. У него их было всего два вида, и притом самые простые, поэтому он без комментариев указал, что в магазине выше по улице имеется больший выбор.
Люсьен Мари взяла черно-белую пару, села и обвязала шнурками крест-накрест ногу немного выше подъема. Давид рассказал о своих безуспешных поисках квартиры.
Жорди задумался, Он хотел было что-то сказать, но сдержал себя, опять погрузился в свое вялое равнодушие.
— У вас есть что-нибудь на примете? — спросил Давид, от которого не ускользнули его колебания.
— Я подумал о доме Анжелы Тересы. Но он вам, конечно, не подойдет.
— Почему вы думаете? — спросили Давид и Люсьен Мари одновременно.
— Это простая крестьянская усадьба. И потом Анжела Тереса немножко… странная, — промолвил Жорди, покачав головой.
Они не настаивали, потому что сейчас им хотелось только одного: сесть и поесть.
— Вы не хотите пойти с нами к Мигелю и отметить приезд Люсьен Мари? — спросил Давид.
К его удивлению Жорди согласился принять его предложение.
Они выпили по рюмочке шерри в баре. Но когда Давид хотел заказать для всех и завтрак, Жорди пробормотал свое испанское «приятного аппетита» и исчез.
Давид вздохнул. Тут ничего нельзя было поделать. Только человек собирается сказать: присаживайтесь, сейчас мы с вами закусим, как Жорди говорит: спасибо за компанию, и исчезает. Если бы он был сыт и богат, он бы остался. Тогда бы он просто выполнял обычную социальную функцию, и никто бы не мог заподозрить, что он остался из-за выгоды, из-за еды. Но если ты беден и голоден, то с каждым днем твоя физическая оболочка все уменьшается и уменьшается в твоем поношенном костюме, и тогда гордость требует, чтобы ты сказал: нет, не хочу, спасибо.
— Какой народ! — сказал Давид. — У них убийственная гордость. Ничего удивительного, что на каждой стенке у них великомученик или страстотерпец. Как он тебе понравился?
— Сначала совсем не понравился, — созналась Люсьен Мари, — а потом я поняла, что эта его окаменелость, его безразличие — только скорлупа, а за нею скрывается человек, А вот какой он — еще не разобрала.
— Здесь есть на то свои причины, — вздохнул Давид и рассказал то, что знал о Жорди. — Не знаю, сколько учителей народной школы было расстреляно, когда победили генералы…
— Шесть тысяч, — внезапно сказала Люсьен Мари ясным голосом. — Я помню эту цифру, потому что Морис и его друзья называли ее много раз. Шесть тысяч.
— Не знаю, верная ли эта цифра, — произнес Давид с некоторой сухостью; он не любил, когда Люсьен Мари приводила слова своего погибшего брата. — Во всяком случае Жорди дали семь лет тюремного заключения, но отпустили, когда он отсидел четыре.
Потому что он сбрасывал иконы — как говорила Консепсьон. И быстро перекрестясь, добавляла: и понятно, такое дело ведь к добру не приведет.
— О, попроси его прийти опять! — воскликнула Люсьен Мари. Так много воспоминаний вдруг ожило в ней: время Сопротивления, Морис, все то, для чего они тогда жили.
У Давида мелькнула гротескная в данном положении ассоциация: Маленький Улле, его мама и медведь: «Мамочка, мама, не надо моего друга пугать/Мамочка, мама, попроси его прийти к нам опять!»
Посреди завтрака вошла Наэми Лагесон, уселась за соседним столиком и уже не спускала с них глаз. Давид поздоровался, но она ему не ответила. Это была по-детски сердитая невежливость, но она наполнила воздух электричеством. У Давида забегали по спине мурашки.
Люсьен Мари старательно избегала делать какие-либо комментарии, но ее умные темные глаза говорили, правда, не совсем серьезно: ага, вот и твой друг, ученик чародея…
Она сидела так, что все время была вынуждена встречаться взглядом с широко открытыми раскосыми глазами, похожими на крыжовник. Она и слова не могла сказать Давиду, эти глаза ее так и поедали.
Мануэль стал вдруг очень ревностно выполнять свои обязанности по обслуживанию посетителей. Передвигался он шажками балетмейстера, и даже в его черных усиках, казалось, сквозило ожидаемое удовольствие.
Старик Мигель тоже показался в дверях в зал, наблюдая за ними из-под своих выпуклых полуприкрытых век. Даже ла абуэла со своими угольно-черными глазками так и мелькала теперь в дверях на кухню. Всем хотелось увидеть, все наивно надеялись — что-нибудь произойдет.
Для них ситуация была ясна. Жена приехала, чтобы перетащить мужа на стезю добродетели. Он не противился. Но любовница так легко не сдается, и теперь она собирается закатить им сцену.
Если посчастливится, можно стать свидетелем грандиозного скандала. Чего-нибудь, о чем потом можно будет сочинить песенку.
Масло на сковородке шипело. На стойке звенели стаканы. Девичий голос, поддразнивая, пел:
«…Я пою, но я в бешенстве,
Потому что я женщина
И не могу
Отомстить за несправедливость…»
Женщины на кухне сегодня все время смеялись.
Раньше Давид не замечал, как его раздражает медлительная испанская церемония за обедом. Суп, одно блюдо. Картошка, второе блюдо. Рыба, еще блюдо. Один апельсин, тоже блюдо. Четыре блюда — какая непозволительная роскошь?
Он очень бы желал, чтобы у него не было тех встреч с Наэми, чтобы она — или он — сидели сейчас в тюрьме, а не в этой комнате.
Он видел, какая она неспокойная, кок размахивает своим белесым лошадиным хвостом, как животное, когда оно чует в воздухе слепней. Видел, как трепещут ее Нервные ноздри. Она так и нагнетала напряженность — но она же была и ее первой жертвой. Он знал: играть в обычную светскую игру она не умеет, поэтому ее так и подмывает взять и устроить самый настоящий скандал. Сама нас оскорбляет, но если мы отвечаем ей тем же, то чувствует себя невыносимо обиженной. Отбросив все свои прежние авторитеты, она отбросила также и все правила обхождения с людьми.
Ладно, а разве у нее нет такого же, как и у нас, права сидеть в общественном месте и есть свой завтрак?
Права так на нас глазеть и даже отказаться поздороваться? Нет, она совершенно сознательно играет роль брошенной любовницы. Бог знает, чего она хочет этим добиться.
Люсьен Мари, сделав несколько мало удачных попыток продолжить разговор, закусила губу. Она тоже видела бьющую по нервам готовность незнакомой девушки к скандалу, неприятное напряжение Давида, еще никогда не сделавшее ни одного мужчину дипломатом, и безжалостные надежды всех окружающих. Хорошо бы всех надуть…
Она вынула из сумочки записную книжку и с трудом написала по-шведски:
«Не хотите ли выпить с нами кофе?» Вырвала листок и попросила Мануэля передать его Наэми.
Наэми взяла его подозрительно, перечитала снова, как будто небольшая погрешность в шведском языке делала его непонятным, взглянула вопросительно. Люсьен Мари показала рукой на третий стул за своим столиком.
Наэми казалась совсем сбитой с толку, поднялась наполовину, потом, видимо, раскаялась, но все же сделала несколько шагов к другому столу. Давид представил обеих женщин друг другу. Не выглядел, он счастливым и сейчас.

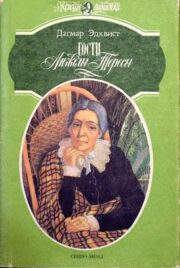
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.