Вот бы иметь болезнь, требующую пребывания на юге, хотя бы ненадолго, осенило Люсьен Мари. Она попробовала покашлять, но кашель вышел неубедительным, даже для нее самой.
Пришел ювелир и попросил отпустить ему царской водки, знаменитой смеси алхимиков, способной растворить золото.
Ученица чародея…
Эта смесь часто приводила к несчастью. Если стекло в бутылке было хрупкое, могло, например, отвалиться дно, и тогда лаборант получал ожоги. Может быть, не сильные ожоги… только чтобы… Люсьен Мари содрогнулась от своей собственной мысли и снова почтительно занялась опасной жидкостью; ювелир взял свою царскую водку и ушел.
Провизор и мадемуазель Марто вновь заспорили, на этот раз о содержимом бутыли, на которой не оказалось этикетки. Чтобы разрешить спор, мадемуазель Вион попросили сделать анализ.
Люсьен Мари сделала обычную реакцию на кальций, налила щавелевой кислоты и воды в колбу, закрепила колбу в штативе, а под нею поместила бунзеновскую горелку. И потом мечтательно стала глядеть на шипящее пламя. Жара. Солнце. И жимолость. Скоро она будет пылать по склонам испанских гор…
И всем этим будет наслаждаться Давид вместе с девушкой, заключившей договор с дьяволом.
Мадемуазель Марто вихрем влетела в комнату.
— Осторожно! — крикнула Люсьен Мари, и обе они одновременно схватились за штатив, покачнувшийся от толчка.
Колба лопнула, и брызги жидкости разлетелись по сторонам. Инстинктивно Люсьен Мари закрыла лицо одной рукой, в то же время с почти веселым удивлением подумав: как раз теперь — надо же, как бывает!
Мадемуазель Марто громко вскрикнула.
В следующую секунду Люсьен Мари с профессиональным хладнокровием держала облитые жидкостью руки своей коллеги под краном с текущей водой.
— Больно вам? Сильно жжет?
— Щиплет очень, — поморщилась мадемуазель Марто.
Но жгучая боль скоро прошла, так как кислота была разведенной и еще не успела нагреться.
— У вас кровь идет, — сказала Люсьен Мари, увидев, что вода сделалась красной.
Мадемуазель Марто вскрикнула вновь, — потому что в этот момент обе они увидели, что кровь идет у Люсьен Мари. В запястье ее левой руки глубоко засел осколок стекла, а она этого даже не почувствовала, но побледнела немного, когда вытащила осколок и кровь потекла сильнее.
Преданный молодой аптекарь выбежал на улицу, свистом подозвал такси и отвез ее к врачу.
— Зачем вы это сделали? Chagrin d'amour — comme oujours? «От горя в любви — быстрая смерть?» — спросил задерганный, циничный доктор. Только вынув еще один осколок, он согласился поверить, что глубокая резаная рана на левом запястье не означала покушения на самоубийство из-за любви.
Потом он зашил и перевязал рану.
— Могу я вернуться на работу? — спросила Люсьен Мари. От местного наркоза у нее слегка кружилась голова.
— Нет, разумеется, — сказал врач. — Нужно прийти через недельку и снять швы. А пока руке надо дать покой.
Свободна. Целую неделю свободна.
С изумлением в душе, и с рукой, которую она совсем не ощущала, Люсьен Мари вышла на улицу, в хмурый, серенький февральский день.
7. Морской грот
— Пригнись, скалы здесь острые, — посоветовал Давид. Он пытался удержать лодку посредине узкого отверстия в скале. Но внизу, под ними, неслись потоки и кипели водовороты, казалось, он гребет сломанными веслами. Один раз их совсем закрутило. Напрягая все силы, он вывел лодку из стремнины и только у выступа скалы добрался до спокойной воды.
— Фу, как тут ужасно, — прошептала Наэми в свинцово-серых сумерках грота. Она съежилась на дне лодки, прижалась к Давиду. Наэми тоже казалась свинцово-серой: объятый ужасом негр. Лица ее он не видел, только зубы и белки глаз.
Скалы истекали сыростью, блестели, как антрацит, — хотя, вероятно, были такого же красного цвета, как те, освещенные солнцем. Вход в грот выглядел отсюда как большое, лохматое А, где перекладинку составляла одна из наружных шхер. Ослепляюще светлое по сравнению с первобытной тьмой, с первобытным холодом здесь, в пещере.
Это была знаменитая Cueva de mar, приблизиться к ней можно было только с моря, и то при определенном ветре. Наэми во что бы то ни стало хотелось увидеть этот грот.
— Ну как, хочется еще посмотреть Царство мертвых? — спросил Давид.
Она стояла на коленях и пристально глядела через борт лодки вниз, в черноту. Переливающиеся отсветы и похожие на края раковины отблески выдавали таинственные глубинные течения.
— Я думаю о том, сколько людей здесь утонуло, — промолвила она, опустив в воду один палец.
Давид внезапно и с силой оттолкнулся от скалы, так, что они стремительно понеслись к выходу. Один только он знал, что его движение было рефлексом страха: только бы не погибнуть здесь, в этой черной воде!
Они оба оцарапали себе руки, пробираясь через узкий проход наружу; вышли на солнце, в синюю морскую бухту, снова вокруг было небо и лето.
Потом опять поплыли к заливу между острозубыми скалами; на этом побережье ни один ледниковый период не смог обточить их когти. Никакой ледяной панцирь не смог подавить их дикости, смягчить их острые и жесткие контуры. Чужое побережье.
На берегу их ожидал рыбак, он принял у них лодку и получил свою плату, сначала-то он хотел, чтобы они заплатили ему сполна еще до катания.
По крутой тропинке они вскарабкались вверх, на скалу. Высоко-высоко, потом на другую ее сторону.
— А когда ты покажешь мне горы? — спросила она, пока они переводили дух. Она стояла на одной ноге и высыпала песок сначала из одной туфли, потом из другой. И тяжело опиралась на его плечо.
— Я же работаю, черт возьми, — сказал Давид грубо, чтобы снять комичность со своей роли Иосифа.
— Не можешь же ты работать без перерыва, — упорствовала Наэми. — Да, кстати, а почему ты делаешь вид, что женат?
На мгновение глаза Давида вспыхнули синим блеском, потом он ответил:
— Ты, конечно, можешь меня соблазнить, если пошлешь все к чертям собачьим, но разве не стоит бросить это дело, если я тебе скажу, что влюблен в другую?
— Ты влюблен?
Она засмеялась и прыгнула оттуда так, что взметнулся вверх белокурый хвост ее волос.
Настоящий тролль — она давала ему возможность победить и все-таки каждый раз победа оставалась за ней.
8. Розы или капуста?
Что это — или мне померещилось, или я вдруг возомнил о себе? — подумал Давид. Ему показалось, что все женщины в дамской парикмахерской как будто только и ждали его. Глаза глядели на него от фенов и от тазиков для мытья головы, и он мог бы поклясться, что там царило напряженное молчаливое ожидание, сменившееся жарким шепотом, как только он обратился к ним спиной — звуком таким же отчетливым и коллективным, как жужжание насекомых над лугом.
Он пробирался в полутьме между непонятным испанским хламом, несколько других очертаний и с другим запахом, чем хлам на шведском чердаке. Потом открыл дверь в ожидании темноты другого оттенка.
Но сегодня ставни оказались распахнутыми настежь. От неожиданного слепящего света он прикрыл глаза.
Какое-то благоухание… Кто-то здесь есть…
Он оцепенел, напрягся, уже знал.
Секунда отчуждения, почти враждебности.
Черный дождевой плащ на кровати. Открытая дамская сумочка на стуле.
Там стояла она, немного позади него, у маленького зеркала на стене, и проводила гребнем по своим черным волосам. Обернулась к нему мягким, гибким движением и с руками, еще поднятыми над головой. Улыбнулась.
Одна волна накрыла его с головой: смыла недели и месяцы после их последней встречи. Еще одна волна унесла прочь темные гроты, лодки и хвост белокурых волос.
И еще одна: подняла его к Люсьен Мари.
Ее руки еще не успели опуститься, они естественным движением легли ему сзади на шею.
Его губы и не подумали искать слова, они искали ее. Нашли — небольшую жесткость волос, изогнутую линию шеи, ее горячий рот. Ее гибкое тело, устремившееся навстречу его телу, сначала с робостью, потом в приятии.
— Как ты сюда попала? — промолвил он, наконец.
— На самолете.
— До Барселоны?
— Да. А потом ехала на трех старых глупых автобусах.
— И всегда ты на меня действуешь как шок.
— Благодарение богу, — прошептала Люсьен Мари. Ее зрачки расширились, тонкие крылья носа трепетали. Да, да — она приехала сюда с целью завоевать его снова — если нужно. Сейчас она была в полнейшей истоме, она дрожала от ликования, что колдовские чары между ними сохранились, остались прежними. Что письма, что слова, по сравнению с этим свидетельством в каждом нерве их тел: мой любимый. Моя любимая. Половина моего я. Мое море, чтобы я мог утонуть. Моя блаженная смерть.
Он подержал ее на расстоянии, не сгибая рук:
— Дай мне на тебя поглядеть.
— Нет…
— Я тебя все еще не узнаю. Ты стала такой парижанкой.
Парижанка улыбнулась:
— Ты меня помнишь, конечно, только в старом пятнистом рабочем халате!
Да, она стала более утонченной, более женственной, чем прежде. Может быть, это черный костюм делал ее такой? Или короткая стрижка? Или то, что его покрывало так удивительно хорошо сочеталось с ее желтым шарфиком, кокетливо повязанным на запястье?
Она что-то вспомнила, наклонилась, искоса взглянула на него лукавым взглядом и подняла подол юбки. Hа левой стороне была приколота английская булавка.
— Неряха, — сказал Давид нежно, узнавая ее вновь и вновь. — Ты не совсем изменилась, как я вижу.
Нет, она не изменилась. Иначе чем объяснить, что в ее манере показывать булавку на подоле юбки было больше женского обаяния, чем у всех женщин, вихляющих бедрами вокруг Пляс Пигаль?

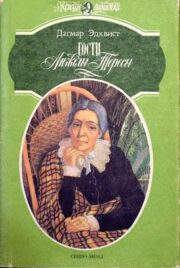
"Гости Анжелы Тересы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гости Анжелы Тересы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гости Анжелы Тересы" друзьям в соцсетях.