— А ты по статье политической? — вдруг заинтересовался Мавлюдов.
— За выступления против царизма на митинге замели меня ищейки, — усмехнулся, отвечая, товарищ Матвей. — Есть там такой котяра блудливый — Митрофан Бурматов. Убил бы гада!
— И я с ним знаком, — вздохнул Азат. — Ты видишь меня здесь благодаря его стараниям.
— Ничего, он ещё за всё заплатит, — пообещал сокамерник. — Уже скоро придёт наше время, и мы свергнем на помойку загнивший царизм!
— Простите, а вы из рабочих? — вежливо спросил Азат, опасаясь разозлить сокамерника, которого откровенно побаивался.
— Кузнец я из железнодорожных мастерских, — охотно ответил товарищ Матвей.
— А почему ты царя-батюшку не любишь?
— Ну ты даёшь! — ухмыльнулся сокамерник. — Да сколько тебе объяснять можно?! Вот ты из конторщиков судейских, грамотный значит, а того не ведаешь, что не за что любить самодержца нашего. Он вон во дворце живёт-жирует, а народ где? Николашка-царь похлеще вурдалака кровь народную со своими прихлебателями и империалистами-буржуями лакает, а люд простой ишачит до изнеможения ради их благополучия! А для чего войну с германцами затеял царь-батюшка? За Антанту европейскую вступился. А для чего они нам сдались? Для чего народ российский кровушку свою проливает?
— Ответил бы я тебе, да не знаю чего, — честно признался Азат. — Я в политике ничего не смыслю. А вообще-то я не на конторщика, а на врача учился, но отец заставил меня в судейские чиновники идти.
— А может, и прав он был, — хмыкнул товарищ Матвей. — Он тебе карьеру выстраивал и заботился по-отцовски. Кстати, как он воспринял твой арест? Кондрашка не хватила?
— Он умер в зале суда после вынесения приговора, — ответил Мавлюдов. — Его к двадцати пяти годам каторги приговорили.
— Вот как? Охренеть можно! — улыбнулся сокамерник понимающе. — Видать, ещё тот был твой папашка «правильный»… И что он представлял из себя?
— Я об его жизни ничего не знал, — спохватился Азат. — Он жил сам по себе в Уфе, а я здесь, в Верхнеудинске, за тысячи вёрст от него. Я…
— Стоп, о жизни своей мне ничего не вякай, — остановил его на полуслове товарищ Матвей. — А вдруг я провокатор? Ты об этом не подумал?
— Мне теперь уже всё равно, — ответил дрогнувшим голосом Мавлюдов. — Меня всё равно упекут на каторгу, а там кому какая разница, кто я есть.
— Ну уж нет, разница есть, — покачал головой сокамерник. — Когда каторжане прознают о твоём судейском прошлом, они превратят твою жизнь в ад кромешный на грешной земле.
— Я уже наслышан об этом, — поникнув головой, промямлил несчастный Азат. — А что мне делать, ты можешь посоветовать?
— Надо подумать, — уставился в угол камеры товарищ Матвей. — Тебе надо к нам примкнуть, к большевикам-марксистам. У нас на каждой каторге свои люди и мы, в отличие от уголовников, друг о друге заботимся.
— А-а-а… Как они узнают меня? — встрепенулся Мавлюдов. — Ведь на каторгу меня упекут по статье уголовной, а не политической.
— Ничего страшного, — подмигнул ободряюще сокамерник. — Наши товарищи на каторге сидят не только по политическим статьям, и по уголовным делам тоже.
Мавлюдов облегчённо вздохнул.
— Тогда дело осталось за малым, — сказал он. — Как мне представиться на каторге товарищам, чтобы они приняли меня за своего?
— Чтобы стать для товарищей на каторге своим, нужно становиться им прямо сейчас, — ответил сокамерник. — Ты должен уметь говорить с ними о загнивающем царизме, о грядущей революции и…
— Я уже понял, о чём с ними надо говорить, — кивнул «понятливо» Мавлюдов. — Я очень хорошо запомнил всё, о чём ты говоришь мне ежедневно.
— Это ещё не всё, — нахмурился товарищ Матвей. — Ты должен понять смысл нашей борьбы и проникнуться им до мозга костей. Но для начала нам надо выбрать тебе подходящую партийную кличку.
— Кличку? Мне? Но для чего? — удивился Азат. — Я не кошка и не собака. Я…
— Тебе бы подошла кличка товарищ Назар! — оборвал его на полуслове товарищ Матвей.
— Я? Назар? — округлил глаза Азат.
— И то верно, — согласился сокамерник, мрачнея. — Какой может быть Назар с мордой восточного обалдуя-дервиша.
— А может быть, Султан? — предложил Мавлюдов. — А что, товарищ Султан звучит отлично.
— Нет, как-то не по-нашему это, не по-пролетарски, — возразил, морщась, товарищ Матвей. — Султан на Востоке — это всё равно, что царь наш батюшка. Такой же упырь-кровопийца.
— Но есть и имя Султан, — оживился Азат. — Я вот знаю…
— Хорошо, не гони, я уже придумал, — усмехнулся сокамерник. — Назовём тебя Рахимом! Товарищ Рахим, как тебе?
— Хорошо хоть не петухом, — поморщился Мавлюдов, которому не понравилась придуманная Матвеем партийная кличка.
— Нет, петухами и козлами пусть себя уголовники называют, — улыбнулся сокамерник. — Это очень обидные по их понятиям словечки, так они лаются. А вот товарищ Рахим звучит строго и внушительно!
— Эй, чего вы там базар устроили? — послышался окрик из-за двери. — Спать валитесь, морды уголовные!
— Да, он прав, скотина коридорная, — сказал Матвей, укладываясь на кровать и скрипя пружинами. — Давно уже ночь на дворе и… Спокойной ночи, товарищ Рахим. Считай себя членом нашей городской партийной ячейки. Теперь ты под нашей защитой и покровительством…
2
Время, проведённое в одиночной камере для особо опасных преступников, — пора раздумий и долгих ожиданий…
Сибагат Ибрагимович ждал суда. В нём ещё теплилась слабенькая надежда на чудо, хотя Аллах едва ли простит его за загубленные жизни.
Сибагат Ибрагимович ни о чем не жалел. «Так на роду написано», — считал он. Но мысль о возможной казни и смерти пугала его. «Мне ещё рано туда», — не раз говорил Халилов себе и вспоминал предсказание старой цыганки, встретившейся ему в кабаке. Тогда он был ещё бедным сапожником…
Богатство и уважение нагадала ему цыганка на картах, а еще сказала, что жизненный путь Сибагата будет долгим и тернистым, но примет он страшную трагическую смерть в глухом месте.
«Я прожил шестьдесят лет, а это уже немало. Путь мой уже можно назвать долгим и тернистым. Был богатым? Был. А теперь вот… Если судья решит казнить меня, то жизнь оборвётся трагически, в петле, на виселице, и я помру не в кругу родственников. Жизнь моя может продлиться ещё, но уже на каторге, а там… Там можно принять страшную трагическую смерть от чего угодно…»
И вдруг на него нашло-накатило. Сибагат Ибрагимович вдруг ужаснулся от мысли, какая мука его ждёт там, на каторге. Уж лучше смертная казнь! Набросят петлю на шею, вышибут табурет из-под ног, и всё! Здравствуй, ад или царство небесное! А что там, за барьером, придёт на смену жизни, можно узнать прямо сейчас.
Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, Сибагат Ибрагимович снял рубаху и разорвал её на полосы, сплёл кручёную верёвку, сделал на конце петлю и накинул её себе на шею. «Прости меня, Всевышний, если ты есть, — думал он, привязывая конец верёвки к оконной решётке. — Оказывается, умереть не так уж и страшно…» Зажмурившись, Сибагат Ибрагимович поджал ноги и… Перед глазами пронеслась вся его жизнь, после чего наступили мрак, пустота и серость…
Когда Халилов пришёл в себя, перед ним стоял человек в белом халате и щупал его шею. Сибагат Ибрагимович глубоко вздохнул и попросил:
— О Аллах, вколи мне чего-нибудь, чтобы я умер. Я не хочу жить…
— Я не могу этого сделать, — ответил доктор. — Я здесь не для того, чтобы забирать чужие жизни.
На восстановительном лечении в тюремной больнице Халилов провёл десять дней. И всё это время он редко вставал с постели. Лечил его всё тот же доктор, которого звали Пётр Егорович.
— Долго мне ещё тут валяться? — спросил Халилов на очередном осмотре.
— Надеюсь, что скоро мы с тобой расстанемся. У тебя крепкий организм.
— А вы можете мне помочь, доктор?
Пётр Егорович сделал какую-то запись в больничной карте и посмотрел на Халилова.
— Из Иркутской тюрьмы бежать невозможно, — сказал он, подходя ближе. — Стены не проломить, решёток не перепилить.
— Но почему вы подумали, что я собираюсь бежать? — удивился Сибагат Ибрагимович.
— На твоём месте просить помощи в чём-то другом едва ли уместно. Ты считаешься чрезвычайно опасным преступником.
Халилов облизал губы и взволнованно сказал:
— А вы, господин доктор, не смогли бы мне помочь умереть?
Пётр Егорович покачал головой и сказал ровным голосом:
— Нет. Я лечу людей, а не убиваю их, запомни.
— А если я предложу вам деньги за свою смерть? Очень много денег, целое состояние!
— Нет, я не поступлюсь своими принципами ни за какие посулы.
Доктор покинул палату, и охранник занял привычное место на скрипучем стуле у кровати Халилова. «А с этим дундуком и вовсе не о чем поговорить, — покосился на его хмурое лицо Сибагат Ибрагимович. — Надо хорошенечко подумать и поискать для «своего благополучия» возможность, которую, если постараться, всегда можно найти…»
Через два дня Халилова перевели в одиночную камеру. На этот раз его обыскали очень тщательно и даже срезали пуговицы с одежды. Сибагата Ибрагимовича лишили чашки, ложки и кружки, а на двери больше не закрывалось оконце, через которое охранник из коридора вёл за ним постоянное наблюдение.
Сибагат Ибрагимович корил себя за совершённую глупость и тщетно искал причины, толкнувшие его на этот отчаянный шаг. Больше покушаться на свою жизнь он не собирался. Значит, нужно найти способ для побега. В чужом городе это, конечно, не удастся, а вот в Верхнеудинске у него осталось надёжно припрятанное состояние. И часть его он использует для обустройства побега. А ещё в родном городе остался надёжный человек, на которого всецело можно положиться.

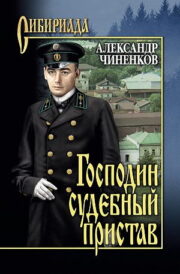
"Господин судебный пристав" отзывы
Отзывы читателей о книге "Господин судебный пристав". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Господин судебный пристав" друзьям в соцсетях.