С того момента, когда окровавленное неподвижное лицо Ивана врачи «скорой» накрыли куском белой материи, больше Алена ничего не помнила. Где она, что с ней, не имело ровно никакого значения, в памяти отложились только тряские выбоины дороги; обжигающие волны боли, рвущие ее изнутри; запах несвежей медицинской клеенки и мелодия, назойливо повторявшаяся в мозгу одной и той же фразой:
Если он уйдет – это навсегда.
Значит, просто не дай ему уйти…
Какие-то люди в белых халатах везли ее на гремящей тележке по длинному безликому коридору, и дребезжание железных вращающихся колесиков разносилось гулким протяжным эхом. Боль, поднимающаяся откуда-то снизу живота, заполняла собой все, разливалась обжигающей волной и притуплялась снова. Хотелось лечь на бок и подтянуть колени к груди, свернувшись калачиком, но на это не было сил.
Слезы, горячие, крупные, как горошины, катились по щекам, попадали на губы и оставались там, запекаясь солеными островками. Беззвучные, они чертили произвольные дорожки на ее щеках, старательно вырисовывая горестное кружево бесконечного отчаяния.
Если он уйдет – это навсегда.
Значит, просто не дай ему уйти…
Они ушли оба, и Иван, и его так и не появившийся на свет сын, а она не смогла удержать ни того, ни другого. Обмануть можно кого угодно, иногда даже себя самого, но не судьбу. Можно остановить стрелки, заставив часы умолкнуть, но это не значит, что время перестанет идти вперед и что предначертанное не исполнится. Словно в насмешку, судьба всю жизнь отдавала Ивану ровно половину того, что ему принадлежало по праву. Уйдя из жизни так нелепо и скоро, он так и не узнал о своем отцовстве, а его сыну или дочери так и не довелось увидеть белый свет воочию.
Что бы ни случилось, каждый из нас всю жизнь борется с судьбой, выгадывая и выкраивая для себя лучший кусок. В этой борьбе мы теряем подчас все: молодость, силу, веру, надежду, друзей и близких, и в конечном итоге саму жизнь, но верх все равно одерживает время. Независимо от нашего желания, оно является к каждому, неумолимо и безучастно проводя нас по кривым переулочкам наших судеб.
* * *
…Телефон в квартире Нестеровых зазвонил в шесть утра. Еще не все осознавая спросонья, Володя вскочил с кровати, впихнул босые ноги в тапочки и ухватился за трубку. Можно было, конечно, притвориться спящим, но тогда подходить пришлось бы матери, а она еще отдыхала и он пожалел ее. И так ей пришлось из-за него несладко, пусть с сегодняшнего дня все будет по-другому.
– Смольный слушает, – радостно зашептал Володя, предполагая, что это звонок от Аленки с Иваном.
Ясное дело, от них, кто же сообразит разбудить народ первого января в такую рань! По старинному ритуалу, заведенному между ними уже несколько лет, Иван должен был важно откашляться и серьезно произнести: «Зимний на проводе. Примите, пожалуйста, телефонограмму!» Но вместо ожидаемых слов в трубке наступила короткая пауза, а потом низкий мужской голос произнес:
– Это квартира Нестеровых?
– Ну да… – растерялся Володя. Одно дело – Иван, он бы понял его реплику как надо, а для чужого человека фраза звучала по меньшей мере дико. Нехорошо получилось.
– Вас беспокоят из милиции. Мне нужна Нестерова Светлана Николаевна. Она дома?
– Дома. А что случилось? – забеспокоился Володя.
– Я могу с ней переговорить? – повторил свою просьбу мужчина. По его тону было слышно, что он недоволен. Еще бы, дежурство в новогоднюю ночь способно испортить настроение любому, да и пустая беседа с ребенком, видимо, его не устраивала.
– Одну секундочку, – смутился Володя, – я сейчас попробую.
Включив в прихожей свет, он на цыпочках вошел в комнату матери. Подойдя к кровати, он слегка потряс ее за плечо и негромко проговорил:
– Мама, тебе придется встать.
Света открыла глаза и в первый момент непонимающе посмотрела на сына.
– Это срочно? – все еще полностью не придя в себя, лениво протянула она.
– Наверное, – пожал плечами он. – Говорят, что из милиции, и просят тебя.
– Из какой милиции? – Светлана рывком скинула одеяло и торопливо выхватила трубку из рук сына.
– Алло! Я вас слушаю! – нахмурилась она. – Да, я Светлана Николаевна, а в чем, собственно, дело?
Прошло несколько томительных секунд, во время которых в трубке что-то говорили, и Володя увидел, как лицо матери покрывалось смертельной бледностью.
– Что случилось? – испуганно прошептал он, хватая ее за руку.
Не обратив на сына внимания, даже не отняв руки, Света вслушивалась в слова на том конце провода, и ей казалось, что жизнь останавливается.
– Когда? – услышал Володя, и от одного короткого слова по его телу побежали мурашки. Голос матери был настолько глух и тих, что он откровенно перепугался.
– Мама, что произошло? – жарко зашептал он, теребя ее за рукав ночной рубашки и пытаясь заглянуть ей в лицо, но оно было непроницаемо каменным, а в глазах, всегда таких светлых и теплых, застыли страх и отчаяние.
– Когда я должна это сделать? – Побелевшие губы матери чуть шевельнулись. – Хорошо, я буду, – выдохнула она и нажала клавишу отбоя.
– Мама? – Володя вопросительно посмотрел на мать.
– Сынок, сегодня ночью погиб Ванечка.
– Нет! – Он затряс головой и отступил от матери на шаг. – Они перепутали, Ваня жив. Я знаю, если бы с ним что-то произошло, я бы почувствовал. Это не он, это кто-то другой, мам.
– Ночью пьяный водитель чуть не сшиб двоих мальчиков. Ванечка оказался рядом случайно, – проговорила Света, будто не слыша слов сына. – Он успел их вытащить из-под колес, а сам отойти не успел.
– А Ленка? – прошептал Володя.
– Она в больнице. Номер мне дали. Сегодня я должна съездить и к ней, и… – она хотела сказать «на опознание», но не смогла выговорить этих слов, – и к Ване.
– Я с тобой, – моментально отреагировал Володя. Его трясло, зубы выбивали мелкую частую дробь, но он старался держаться, чтобы не причинять матери дополнительных страданий.
– Я поеду одна. Ни в больнице, ни тем более в морге тебе делать нечего, – твердо проговорила она.
– Если не хочешь брать меня с собой – не нужно. Я буду ждать около входа, но одну тебя не оставлю, – вдруг решительно отрезал он, и Светлана почувствовала, что рядом с ней есть мужская рука.
– Как скажешь, – согласилась она.
Сев на край кровати, она прикрыла глаза и безвольно опустила руки вдоль тела. Бронзовое зеркало в белом безмолвии не обмануло. Еще шесть часов назад она была самой счастливой на свете и не просила у судьбы ничего, и вот теперь, когда первый день года только наступал, она не могла объять разумом обрушившееся на нее несчастье – потерю дорогого ей человека, почти сына, части ее самой, ее души и сердца. Через два часа, позвонив в больницу, она узнает, что этой ночью погиб еще один человек и что этот человек – ее родной внук. Возврата в прошлое не было даже через огненное пекло зазеркального коридора, потому что острые, как бритва, осколки лежали мелкой пылью на дне глубокой пропасти, заглянуть в которую было выше человеческих сил.
* * *
Смерть Ивана все разрезала надвое, расколов мир любивших его на «до» и «после». Холодные руки одиночества сомкнулись, прижимая к себе, обдавая страхом. Отчаяние и безысходная тоска, зазвенев на пределе, словно натянутая до отказа струна, слились воедино, обрушив на землю кричащий мир боли и бессилия. Сворачиваясь в тугую спираль и распрямляясь обратно, время расчерчивало незримую карту вечности.
А за окном, забыв об очередности, будто по чьему-то недосмотру, на город обрушилась весна. Но дни ее были не ласковыми, не щедрыми, а серыми и угрюмыми, с обманчиво-сквозящими ветрами и хмурыми каплями глуховатой капели. По краям асфальтовых тротуаров неслись мутные потоки грязного тающего снега, на выступивших проталинах земли бурыми островками желтела прошлогодняя трава, едва тронутая свежими зеленоватыми побегами. Шла только первая неделя января, а на гибких ветках сирени уже наливались почки. Старательно отделив две тысячи четвертый от две тысячи пятого, время перевернуло странички календарей и забыло о нашем грешном мире, занявшись, вероятно, более важными делами.
Сегодня, седьмого января, был день рождения Светланы. Шагая с тяжелыми сумками по хлюпающей под ногами слякоти, она думала о том, что лучше бы этого дня не было вовсе. Осознание того, что она не любит свои дни рождения, пришло как-то незаметно.
Праздники, такие долгожданные и желанные в детстве, вдруг стали тяготить, отдаваясь в подсознании горечью и утратой чего-то светлого и дорогого. Каждый прожитый год уже не приносил, а отрывал часть жизни, часть того, что отмерено ей на этой земле. Прибавлялись проблемы, множились неразрешимые вопросы, увеличивалась ответственность, тяготила безысходность. Казалось, что больше того, что уже навалилось, выдержать невозможно, но поверх старого наслаивалось новое и, еще ниже пригнувшись к земле, она продолжала идти.
Снежно-серая жижа, жирным слоем разлитая по тротуару, затекала в швы обуви; грязными дырами темнели на газонах островки проталин, надрывно каркало воронье и низко, почти касаясь земли, темнело безрадостное застиранное небо. Хлюпающую и чмокающую на все лады грязь мостовых рассекали упругие протекторы автомобилей, эта ледяная каша волной откатывалась в разные стороны и тут же стекалась обратно.
Шагая по этой хляби, Светлана с горечью размышляла о том, что все в этом мире предначертано заранее и счастье, даже если оно и существует, знает не все адреса и заходит не в каждый дом. Тот, кто отмерял на ее долю счастье и беду, видимо, ошибся, расплескав радость и удачу по дороге и наполнив ее мерку тоской и печалью. Слишком мало было в ее жизни счастья, слишком дорогой ценой расплачивалась она за каждую встречу с ним.
Вспоминая глаза дочери, погасшие, неживые, Светлана до крови прикусывала губу, боясь расплакаться или закричать. Сейчас, после того как дочь, не выдержав щемящего одиночества, переехала к ней, они были совсем рядом, но помочь Аленке она была пока не в силах. К смерти любимых невозможно привыкнуть, ее нельзя ни обойти, ни победить, ее можно только пережить, а для этого нужно время.

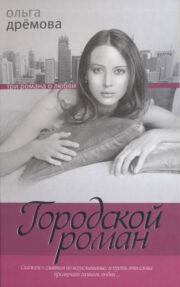
"Городской роман" отзывы
Отзывы читателей о книге "Городской роман". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Городской роман" друзьям в соцсетях.