Кирилл подскочил, усадил ее на стул и встал перед ней на колени.
— Оленька, не уходи, Оля, я не хотел тебя обидеть, прости, — отрывисто заговорил он, целуя ей руки. — Но ты должна понять… Мне плохо без тебя… Ты мне очень нужна…
Этот внезапный порыв и мольба в его голосе растопили злобный, колючий комок, застрявший у нее в горле, по щекам медленно потекли тихие слезы. Она смотрела сверху на светлые пряди его волос, на миг забыв обо всем. Это снова был ее Кирилл, ее, только ее! Она потянулась к нему, прижалась губами к затылку и прошептала:
— Ты любишь меня?
Как только Ольга доходила в своих воспоминаниях до этого момента, кровь бросалась ей в голову, краска стыда заливала лицо, будто начинался жар от резко подскочившей температуры. Она отложила вязанье, силясь справиться с нахлынувшим волнением, прилегла на топчане и закрыла глаза.
Она помнила все до мельчайших подробностей, словно это происходило вчера, а не месяц назад. Помнила, как Кирилл продолжал молча целовать ее руки, словно не слышал вопроса. Это насторожило Ольгу, она схватила его голову и посмотрела прямо в глаза.
— Ты любишь меня? — дрожащим голосом повторила она, будто вся ее жизнь зависела от его ответа.
Ее поразило, как за несколько секунд лицо его превратилось в застывшую, окостеневшую маску. Ольга оцепенела, со страхом вглядываясь в потускневшие чужие глаза, их серый, стальной цвет пугал ее.
Кирилл молча поднялся с колен и нервно заходил по кухне. У Ольги возникло ощущение, будто ноги и руки ее налились свинцом и нет возможности двинуться с места.
— Оля, выслушай меня… и пойми… — заговорил он наконец, остановившись возле нее и ласково положив руку ей на плечо. — Нам уже не семнадцать лет, когда клятвы и заверения в любви сами собой слетают с губ… Честно говоря, я думал, что не смогу уже быть ни с кем после Полины… Для меня самого это такая неожиданность… ты… ты как подарок судьбы, но… — Ему трудно было говорить, он провел ладонью по лицу, как бы собираясь с мыслями, и продолжал: — Подожди немного, Оля, я умоляю тебя… не торопись… не делай поспешных выводов. Пусть само все уляжется и… дозреет, что ли…
Голова у Ольги шла кругом, из горла неожиданно вырвался какой-то хрипловатый истерический смешок.
— Значит, для того, чтобы спать со мной, ты уже дозрел, — ядовито произнесла она, — а для того, чтобы испытывать какие-то чувства, кроме физиологических потребностей, еще нет?
Она с ужасом понимала, что слова ее злы, циничны и несправедливы, но остановиться уже не могла. В какой-то миг ей стало даже жалко Кирилла, но, заметив, что черты его лица снова как-то застывают и взгляд становится непроницаемым, она вскочила со стула и решительно направилась в прихожую.
— Ну зачем ты так, Оля? — горестно воскликнул Кирилл ей вслед.
Надев плащ, она прошла в комнату за сумкой, а выходя, столкнулась с Кириллом, который опять стоял в дверях, загораживая ей путь.
— Оля, я вечером обязательно позвоню тебе… или приеду, — сказал он. — Нам надо поговорить. Ты успокоишься, выспишься и…
— Нет уж, ни звонить, ни приезжать не надо, — твердо проговорила Ольга. — Нам не о чем говорить, пока ты… не дозреешь. Пусти меня!
Кирилл крепко схватил ее за плечи и больно сжал их.
— Я знаю, ты хочешь, чтобы я отрекся от Полины, от памяти о ней, и поклялся тебе в вечной любви. Ты ведь этого хочешь? — слегка задыхаясь, спросил он, и Ольгу поразило тогда сочетание беспомощности и жесткости в его голосе.
И опять смутное чувство жалости к нему зашевелилось где-то в глубине души, но собственная боль и то унижение, которое, как ей казалось, она испытала в полной мере, овладели ею совершенно, выразившись почти в ненависти, с какой оттолкнула она Кирилла.
— Я хочу только, чтобы ты оставил меня в покое, — холодно сказала она и вышла из квартиры.
Он не удерживал ее.
С тех пор Ольга не видела Кирилла, не знала даже, в Москве ли он или, как советовали врачи, уехал в санаторий в Кисловодск. Может быть, он и звонил ей, но весь этот месяц Ольга включала телефон лишь для того, чтобы поговорить с тетей Тамарой, которая после смерти дяди Паши жила в Москве с Ириной и Игорем.
Говорили они, как правило, о здоровье и о погоде, но где-то подспудно у Ольги возникло ощущение, что тетя Тамара лучше всех понимает ее состояние, потому что и сама с трудом приходит в себя после потери мужа.
И вообще тетя Тамара, женщина добрая, но суровая и немногословная, после смерти дяди Паши стала ей как-то ближе и родней, чем за те десять лет, что прожили они бок о бок. Родителям Ольга звонила редко, в основном передавала им приветы через тетю Тамару, от нее же узнавая, как продвигается их подготовка к переезду в Александровку будущей весной.
Ольгу раздражало веселое щебетание Ирины, когда та брала трубку и начинала в упоении рассказывать об успехах Игоря на работе, о мечтах обзавестись собственной квартирой и купить новую мебель. Слушать эти речи было невмоготу, и не столько куцые мечтания сестры угнетали Ольгу, сколько ее радостный и беззаботный тон, будто жизнь Ирины протекала светло и безоблачно и ничего страшного не случилось. «Ну ладно Светка, — думала она, — в конце концов, дядя Паша для нее посторонний человек, но Ирина…» И, как правило, не дослушав сестру и перебив ее на полуслове, звала к телефону тетю Тамару. Ирина, обиженная, замолкала, подзывала мать, но в следующий раз все повторялось снова.
Часто, ложась в холодную одинокую постель, Ольга вспоминала жаркие объятия Кирилла, его поцелуи и то невероятное наслаждение, которое испытала она той ночью и которое подарил ей он. Но тут же непременно возникала мысль о том, что в любовном чаду она ни разу не вспомнила — даже не вспомнила! — о дяде Паше, и она ужасалась собственному бездушию. Ольга твердо знала, что не будет уже в ее жизни человека, который любил бы ее так преданно и бескорыстно, как он.
И даже самой себе боялась она признаться, что ей хотелось бы вновь увидеть Кирилла, его улыбку, ощутить прикосновение его рук. Он снился ей иногда, веселый, счастливый, и всегда рядом с ним была Полина, тоже радостная и смеющаяся, как на фотографии. Они смотрели друг на друга, о чем-то говорили, и Ольга боялась, что вдруг он заметит ее, и он действительно замечал, но не узнавал, а лишь взглядывал мельком, как на случайного прохожего.
Порой бремя плоти давило ее, тело изнемогало от жажды ощутить в себе сильную, могучую власть животворящего слияния. И странно, что в такие мгновения ни Вадим, ни даже Игорь, с которыми провела она много счастливых часов и дней, совсем не вспоминались ей. Перед внутренним взором неизменно возникал Кирилл, его одухотворенное страстью лицо, красивое, мускулистое тело. В отчаянии кусая подушку, Ольга гнала от себя этот образ, но память плоти избирательна и приказывать ей невозможно.
Поэтому и приходилось время от времени призывать на помощь память сердца, беспощадно, шаг за шагом вспоминая о пережитом унижении и поддерживая тем самым пламя обиды, чтобы оно не уменьшилось или, не приведи Бог, не угасло совсем.
Как только на следующий день Ольга переступила порог редакции, то сразу поняла, что напрасно боялась скорбных лиц и соболезнований.
— Ольга Михайловна, наконец-то! Рад вас видеть, — подскочил к ней Никанорыч, помогая снять куртку, — и, заметьте, не бескорыстно, — лукаво подмигнув, добавил он.
— Сережа, как не стыдно, дай человеку хоть отдышаться! — воскликнула Елена Одуванчик и выпорхнула из-за стола. — Оленька Михайловна, ну как вы, дорогая? Здоровы? Ну и слава Богу, слава Богу… Выглядите очень, очень хорошо, — ласково улыбаясь, щебетала она. — Сейчас чаек поставим… А как Тамара Ивановна?
Ольга с облегчением окунулась в привычную атмосферу доброжелательности, теплоты и дружеского участия и только сейчас осознала, что ей в последнее время очень не хватало суетливой заботливости Одуванчика, прямодушного, но не злого юмора Никанорыча, даже экстравагантности и резких суждений Искры Анатольевны.
— А где же Искра Анатольевна? — спросила она. — И Верочка?
— Искра скоро прибудет, — сообщил Никанорыч. — А вот Верочка у нас теперь студентка, по понедельникам ей положен нерабочий день под названием «библиотечный». Я ей говорю: «Верочка, дружочек, не вздумай действительно ходить в библиотеку, используй этот день для личной жизни»…
Ольга улыбнулась и прошла к своему столу, заваленному папками с рукописями.
— В чем же ваша корысть по отношению ко мне? — продолжая улыбаться, обратилась она к Никанорычу.
— А вот, извольте взглянуть! — тут же подбежал он, указывая на папки. — Видите, сколько работы, и ведь все несут и несут… Их как прорвало, право! Искра нас с Еленой и взяла в ежовые рукавицы, лишний раз покурить не выйдешь. Я уже две недели не общался ни с одной редакцией! Не знаю, чем живет коллектив! — запальчиво выкрикнул Никанорыч и, закручинившись, замолчал.
Ольге очень хорошо было известно, что он с Одуванчиком чуть ли не по полдня привык проводить в других редакциях, при этом Елена Павловна держала руку на пульсе издательства в основном в отношении семейной и вообще закулисной жизни коллег, а Никанорыч любил обсуждать политические события, новости литературы и театра, попутно выполняя роль народного трибуна и одновременно народного же контроля.
— Говоришь, не знаешь, чем коллектив живет? А ты меня спроси! — раздался громовой голос величественно вплывающей в комнату Искры Анатольевны, которая, видимо, через приоткрытую дверь успела услышать последние слова Никанорыча. — А живет он, любезный Сергей Никанорыч, ударным трудом! Ольга Михайловна, приветствую вас, голубушка, — обратилась она к Ольге. — Ждали с нетерпением. Вы, наверное, уже в курсе, что работы у нас невпроворот. — Она повесила пальто в шкаф, закурила и, подойдя к Ольге, положила руку ей на плечо. — И мой вам совет, Ольга Михайловна: включайтесь сразу, погрузитесь целиком, без остатка. Время, конечно, хороший лекарь, но в вашем положении спасение можно найти только в работе, уж поверьте моему печальному опыту…

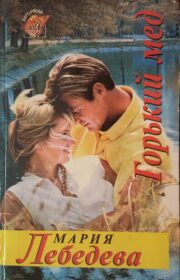
"Горький мед" отзывы
Отзывы читателей о книге "Горький мед". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Горький мед" друзьям в соцсетях.